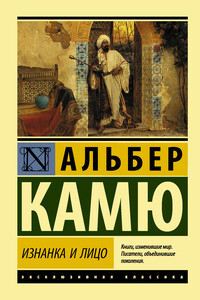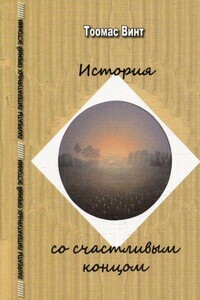И нет рабам рая | страница 50
Андрей слушал, не перебивая, утюжа закоптелым утюгом свои потрепанные брюки.
— С ним о таких делах, а он себе на утюг поплевывает, — обиделся отец.
— Не поплюешь — не погладишь.
— В Лукишках тебя так отутюжат, что живого места не останется.
— Прости, папа, но я не пойму, чего ты от меня хочешь?
— Чего хочу? Чтобы был такой, как все. Разве это трудно?
— Что?
— Быть как все.
— Жить — легко, быть — трудно.
— Не вижу разницы.
— Как и твой Лиров… Небось, называл по имени-отчеству? Говорил, наверно, как тебя любят и ценят.
— В общем — да, — не чувствуя в вопросе сына никакого подвоха, ответил Дорский.
— А ты не спросил у него, почему тебе от их любви больно? Ведь тебе, папа, больно?
Мирон Александрович смотрел на сына, на юркий утюг, сновавший туда-сюда по протертой, почти просвечивающейся материи — у ходоков в народ всегда должна светиться задница! — и надежда на то, что сын опомнится, что все изменится и вернется на круги своя, вытеснялось каким-то смешанным чувством гордости и сострадания. Больно, конечно, больно. Но он, Мирон Александрович, не намерен кричать о своей боли на каждом перекрестке. Кричи не кричи — сочувствия не дождешься. Уж во стократ лучше любовь, причиняющая боль, чем тюремная похлебка. И дай бог ему, Андрею, чтобы его пытали только такой любовью!
— Если тебя упекут, я не вынесу…
— Ну вот штаны и готовы, — Андрей как ни в чем не бывало положил штаны на скрипучую кровать.
— Будешь отцом — поймешь.
— Ты, папа, зря волнуешься. Все у тебя будет в порядке: ни звания не лишат, ни привилегий.
— Каких привилегий? — набычился Мирон Александрович. — Единственная моя привилегия — ты!
— Положим, кроме меня, у тебя есть и кое-какие другие привилегии: дом… имя…
— Чепуха!
— Не будем, папа, спорить. Спасибо тебе за беспокойство. И я, по правде говоря, кое-что приготовил для тебя, чтобы в случае чего оградить от неприятностей.
Андрей подошел к висевшему на стене шкафчику со сломанной дверцей и извлек оттуда паспорт.
Мирон Александрович дрожащими руками взял у сына документ, впился в него взглядом затравленного дворового голубя и долго не поднимал отяжелевшую, пышущую, как утюг жаром, голову.
— Получил к совершеннолетию, — объяснил Андрей.
— Это подложный паспорт. — Дорский с трудом подбирал слова. — Это… оскорбление памяти матери, мечтавшей…
— Давай, папа, без трескотни и пафоса. Ты не в суде, — перебил его Андрей.
— Ты — Дорский… Андрей Миронович, а не Арон Мейлахович Вайнштейн… Дорский!..