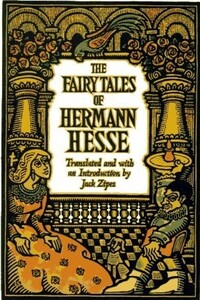Дом «У пяти колокольчиков» | страница 56
Клемент в отчаянии заломил руки. Леокад сильно вздрогнул и закрыл глаза; другого, более определенного ответа брат от него не дождался.
— Все равно не могу поверить, будто мужчина не может исполнить того, на что он бесповоротно решился, — в раздумье проговорил Клемент, обращаясь более к себе, чем к Леокаду. — Ведь я тоже знаком с этой Неповольной и согласен, что она весьма привлекательна, но почему-то не считаю нужным млеть подле нее, не влюблен ни в нее, ни в какую-либо из ее подруг. Ведь я тоже ценю красоту, а что сердце у меня и груди не бесчувственное, я, наверное, доказал своей любовью к матери, к свободе, ко всем беззащитным, слабым и невинно страдающим — за такую любовь я готов кровь свою пролить. Как только я начинал ухаживать за какой-нибудь девицей, меня сразу охватывала смертная тоска, ибо я заглядывал в пустоту красивого сосуда, в мелкую душонку, преисполненную безграничного тщеславия. Не могу понять, чему же тут поклоняться? Что способны они дать науке, родине? Чем до сих пор себя проявили? Чем заслужили нашу любовь? Многие ли из них поднялись выше простого животного, а между тем претендуют на звание человека? У них нет ровно никаких заслуг в духовном развитии человечества, зато они тормозят действия мужчин, мешают идти вперед, делают из них своих марионеток. А дети? В своем легкомыслии эти матери воспитывают из них пустых, никчемных, слабовольных людей, и это наносит непоправимый вред просвещению нашего народа, развитию общественной жизни. Они, женщины, виноваты, что из нас ничего не получилось и, видно, долго еще ничего не получится. Если бы я не знал нашей матери, не видел на ее примере, на какие жертвы способно сердце женщины и сколько в нем чувства собственного достоинства, как может оно гореть благороднейшими порывами, я бы наверняка счел никчемным весь их пол. Но ведь столь благородная душа, как наша мать, наверно, еще более редкое явление, чем цветок алоэ, расцветающий среди жесткой, колючей зелени один раз в сто лет. Леокад, брат мой, услышь меня! Если ты не можешь иначе — люби, люби их хоть целую сотню разом, только забудь эту! Разве мало в Праге красоток, у которых такие же алые, влекущие к поцелуям губы, такие же ясные глазки и нежные ручки, как у этой девицы Неповольной, и всем им по восемнадцать лет?
— В том-то и дело — почему она, только она, а не другая? — зарыдал Леокад. — Отчего у меня нет сил вырвать ее из своего сердца, отдать его другой, другую принять в свою душу? Все, что ты мне сказал, я уже сто раз говорил себе куда откровеннее и суровее, только все напрасно! Я должен думать о ней и любить ее, даже если бы знал, что все плохое, что случится со мной, будет сделано ею; я не мог бы поступить иначе и стал бы целовать дорогую мне руку, даже если бы она коварно пронзила мне грудь кинжалом. Ты скажешь, это малодушие, ну так что ж, я признаюсь в нем; карай, наказывай меня за него, отдай на посмеяние товарищам, пригвозди к позорному столбу как глава и судья нашего братства, осуди на смерть в соответствии с присвоенным тебе правом и, посчитав изменником, вложи оружие в руку тайного палача — тебе все равно не убить моих чувств к ней; не переменятся они и тогда, когда она, быть может, сама отнимет у меня всякую надежду на взаимность.