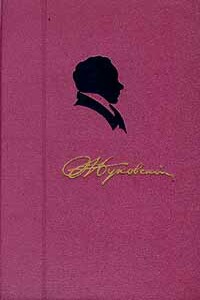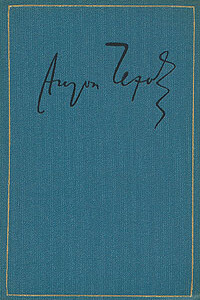«Всегда же со мною твой образ...» | страница 21
Как же рассказать мне тебе это время, родная? Много будем говорить и с глазу на глаз, и на улицах, и в театрах, и в книгах, и в стихах — пока не загладится эта разлука. Нехорошее это слово — и какою всплыла строка в памяти, вечерняя строчка моя —
«в ожиданье свое —
ни процента разлуки,
ни полграмма тоски».
Работой я стараюсь занять все время. Каждую свободную минуту овладеваю французским произношением, благо сосед мой — кровный француз. Отсюда попутно вытекает просьба к тебе — может, подвернется под руки томик Беранже в оригинале, его — в первую очередь, и вообще, не пропусти возможности подхватить под руки ни Мюссе, ни Бодлера, ни Лиля. Кстати, у Зарецкого пара выпусков (мои) нового издания Беранже, надо бы их взять, а то перейдут в давность, а мне могут понадобиться. Твердо ставлю задачу научиться говорить, теперь набираю словесный багаж и сижу над грамматикой.
Встречаются лица, типы. И опять жаль города, где ты бы имела возможность хорошо работать и свободно дышать в этой громадине с литературными улицами. Я писал тебе, что как будто чудак какой-то смотрел в писательские святцы и называл улицы по очереди. Между прочим, со времени приезда моего идут все фильмы Белгоскино, и новые — «Первый взвод» и «Сосны шумят», и даже «Кастусь Калиновский» рекламируется как «героический фильм».
Тут очень приличное издательство — супер, по оформлению книги, и хороший магазин комиссионной книги. Классика тут в бешеной цене.
И разве можно писать столько маленькой, родной моей, ненужного?
Ей нужны слова тихие, как пожатие руки в сумеречной комнате, когда нужен покой и отдых после тревоги. Всей своей силой и бодростью укутываю тебя.
Покойна будь, берегись. Наше все с нами.
Из Мариинска сейчас же напишу. Только ты никак не беспокойся, что я замерзну: у меня есть уже шапка и большие-пребольшие ботинки. Мне совсем тепло. Хуже с деньгами. Они получены и переведены на счет учреждения, а оттуда я могу получать их только небольшими суммами и очень редко. Обидно, что они нужнее тебе и будут здесь лежать неиспользованные.
Будь же здорова. Приветствуй мать, пожми руку Рафаиловичу, а город «прежний мой», как ты пишешь, и теперь люблю я крепко, принимаю его как свой, люблю без налета тоски и ностальгии. Привет ему и комнате на одной из его улиц, комнате, в которой родная.
Пусть берегут ее все.
(Подпись)
27.11.1933.
Утром письмо твое. Ослепительно яркое. Тепло и радостно стало вокруг. И с большей силой врубаюсь я в гору пространства, и знаю, и вижу: вместе будем. Тем более, что в Мариинске, очевидно, надолго остаться придется.