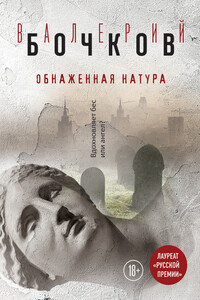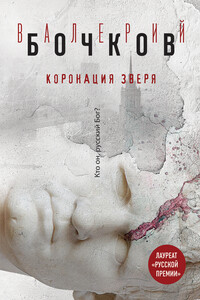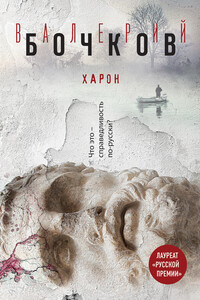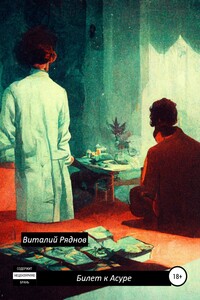Шесть тонн ванильного мороженого | страница 112
Я был впопыхах увезен родителями на другое полушарие в весьма нежном возрасте: красные галстуки, размытая акварель крымского лета, щекотный песок в сандалиях и божья коровка на загорелой руке – все это слишком похоже на полузабытые кадры незатейливого подросткового кино, чтобы быть правдой.
Оканчивал школу я уже здесь, на Ист-Сайд, в чопорном гетто роскошных особняков. Строгая геометрия Нью-Йорка, логичная рациональность и практичность Манхэттена оформили мой характер, затушевали и свели на нет славянскую безалаберность и лень, все то, что мои милые покойные родители, так и просидевшие до конца на двух стульях межкультурья, именовали нелепым словосочетанием «русская душа».
Отец – хмурый красавец, его профиль с короткой трубкой чернеет силуэтом в проеме двери, дальше, в жаркой тени веранды, моя мать в качалке и с веером. На столе запотевший стакан лимонада с листом мяты, белые дюны и синее, плоское, как аппликация море. Океан, если быть точным. Добавим пару чаек. Мы снимаем летний дом под Бостоном. Разумеется, разумеется – «дача», никак иначе он не именуется у нас. Вечерний чай, самовар натужно пыхтит и царапает красными искрами лиловое небо, пахнет дымком и яблочным пирогом; я обожаю объедать поджаристые, сочные перекрестья плетенки.
Мать покачивает ногой в такт тихому фокстроту с гибким кларнетом, отец, сдвинув брови, словно совершая некий ответственный акт, беззвучно хлопнул рюмку водки. Он сам настаивает ее на бруснике.
Каникулы, и вам пятнадцать: у вас непременно должна быть соседка. Без соседки, считай, лето псу под хвост. Моя соседка – Бэкки, рыжая и томная не по годам, полоснула, как и водится, чем-то острым по душе. Зализывал, скуля, аж до Рождества. Белые гольфики с кисточками, след от пластыря на загорелой коленке, хрестоматийная синь в глазах, а в итоге – первый шрам на сердце. Мимоходом замечу – наука впрок не пошла.
По недомолвкам, намекам и обрывкам взрослых бесед (тема нашей эмиграции – семейное табу) я почти уверен, что отец был связан с органами и что-то там пошло наперекосяк. Не исключено, однако, что шпионская версия не более чем детская придумка: я с самого начала был отчаянным вруном и фантазером.
Тепло, в ночном воздухе неуловимо звенит хор цикад из черной рощи за дюнами. Ветра нет, прибой мерно перелистывает тягучее время. Мать зажигает керосиновую лампу, колба густо наливается оранжевым светом, пламя чуть коптит, пестря мошкарой. Из темноты распахнутой гостиной куртуазно грассирует Вертинский, и кажется – вот-вот сам выйдет к нам и, по-домашнему усевшись рядом и закурив тонкую папиросу, будет лениво любоваться остывающим океаном.