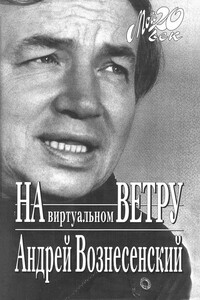Некрополь | страница 93
И слушая сестрины речи, он вспоминает, как еще при его приближении к дому -
Как видим, дед и мать, безнадежно глядящие на сестер, представляются Есенину последними носителями мужицкой правды: Есенин утешается тем, что хоть в прошлом — эта правда все же существовала. Но в стихотворении „Русь советская“, получившем такую широкую известность, Есенин идет еще дальше: он прямо говорит, что ни в чьих глазах не находит себе приюта, — ни у молодых, ни даже у стариков. Той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть Инония, — нет. Есть — грубая, жестокая, пошлая „Русь советская“, распевающая „агитки Бедного Демьяна“. И Есенину впервые является мысль о том, что не только нет, но, может быть, никогда и не было той Руси, о которой он пел, что его вера в свое посланничество от „народа“ — была заблуждением:
Он прощается с деревней, обещая смиренно „принять“ действительность, как она есть. Теперь кончены не только мечты об Инонии (это случилось раньше) — теперь оказалось, что Инонии неоткуда было и взяться: мечтой оказалось сама идеальная, избяная Русь.
Но смирение Есенина оказалось непрочно. Вернувшись в Москву, глубоко погрузясь в нэповское болото (заграницу ухал он в самом начале нэпа), ощутив всю позорную разницу между большевицкими лозунгами и советской действительностью даже в городе, — Есенин впал в злобу. Он снова запил, и его пьяные скандалы сперва приняли форму антисемитских выходок. Тут отчасти заговорила в нем старая закваска, и злоба Есенина вылилась в самой грубой и примитивной форме. Он (и Клычков, принимавший участие в этих скандалах), были привлечены к общественному суду, который состоялся в так называемом „Доме Печати“. О бестактности и унизительности, которыми сопровождался суд, сейчас рассказывать преждевременно. Есенина и Клычкова „простили“. Тогда начались кабацкие выступления характера антисоветского. Один из судей, Андрей Соболь, впоследствии тоже покончивший с собой, рассказывал мне в начале 1925 г., в Италии, что так „крыть“ большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в Советской России; всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Относительно же Есенина был только отдан в 1924 году приказ по милиции — доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода. Вскоре все милиционеры центральных участков знали Есенина в лицо. Конечно, приказ был отдан не из любви к Есенину и не в заботах о судьбе русских писателей, а из соображений престижа: не хотели подчеркивать и официально признавать, расхождения» между «рабоче-крестьянской» властью и поэтом, имевшим репутацию крестьянского.