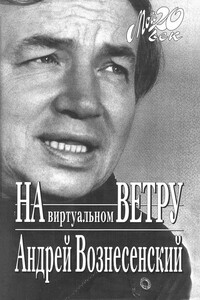Некрополь | страница 92
И этого не будет! Придет предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь „Гранд-отель“, а потом тут вырастет город с фабричными трубами… И сейчас уж у лазоревого плеса сидит стриженая курсистка, или с Вейнингером в руках, или с „Ключами счастья“.
Извините, что отвлекаюсь, Владислав Фелицианович. Может быть, чушь несу я страшную, это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житье на свете?…
Очень ценны мысли Ваши, и согласен я с ними, но пока потопчусь на старом месте, около мельниковой дочери, а не стриженой курсистки. О современном, о будущем пусть поют боле сильные голоса, мой слаб для этого…» (Конец письма опускаю: он не имеет отношения к данной теме. В. X.)
Когда Ширяевец мне писал: «Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет», — знал ли он, что в действительности не только скоро не будет, а уже нет, а вернее, совершенно такого былинно-песенного «народа» никогда и не было? Думаю, знал, — но старался эту мысль гнать от себя: жил верою в идеального мужика, в «сказку», «а без сказки, какое житье на свете?».
Ширяевец не напрасно упомянул Есенина: весь пафос есенинской поэзии был основан на вере в этот воображаемый «народ». И Есенин жил «в сказке», лучшей страницей которой была Инония, светлый град, воздвигаемый мужиком.
Первый удар мечте нанесен был еще до женитьбы Есенина. Но мы уже видели, что тогда Есенин не отважился признать правду: все несоответствие между мечтой и действительностью он не только свалил на вторжение города в жизнь деревни, но и продолжал верить, будто это вторжение лишь механично и ничего не меняет в сущности деревни. Ему даже мерещилось, что придет пора, — деревня захочет и сумеет за себя постоять. Теперь, после долгого отсутствия, вновь приехав в деревню, Есенин увидел всю правду. «Вновь посетив родимые места», он с ужасом замечает:
Сперва он не узнает местности. Потом, — не сразу находит дом матери. Потом, встретив прохожего, не узнает в нем родного деда, того самого, которого он некогда так ясно себе представлял сидящим в раю «под маврикийским дубом». Потом узнает, что сестры стали комсомолками, что «на церкви комиссар снял крест». Пришли домой — он видит: «на стенке календарный Ленин». И вот -
Сестра же, «раскрыв, как Библию, пузатый „Капитал“, — „разводит“ ему „о Марксе, Энгельсе“: