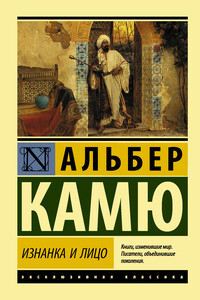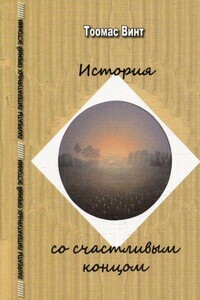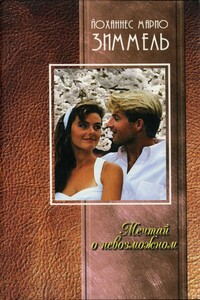Маски духа | страница 54
– А ты кто такой?
– Я? – чему-то удивился человечек. – Я – памятник.
– Какой памятник?
– Не какой, а кому, – поправил меня он. – Я памятник Рабиновичу.
– Какому еще Рабиновичу? – сморозил я глупость и покраснел.
– Вот именно, – все понял он. – Я памятник именно тому самому Рабиновичу, про которого вы подумали. Но они, – тут он указал пальцем куда-то себе за спину, – они думают, что я памятник совсем другому Рабиновичу. И хотя мое место на постаменте во дворе Литературного музея, куда меня определил Резо Габриадзе для того, чтобы люди при мне рассказывали мои же анекдоты про меня, разве забудешь то, что было! О, какие были овации! Женщины плакали от слез! Понимаете? Женщины плакали от слез! Цветы валялись по всей сцене. Но вы же не знаете даже, что такое сцена. Вот ваш дедушка знал, хотя и попал на нее по ошибке. И Резо знает, потому что он форменный режиссер и любит правду. Он любит правду, поэтому ставит спектакли не для людей, а сразу для марионеток. С актерами труднее, потому что они не сразу понимают, что они – марионетки. Они сначала думают, что они люди. Поэтому Резо работает сразу с марионетками. И он знает, что такое сцена. А вы нет. Но хоть самого-то Резо вы знаете? Его все знают.
Все-таки я думаю, что марионетками не рождаются. Марионетками становятся. Причем не сразу. И не так просто. Сначала человек живет себе и живет. Ходит на горшок, потрошит кукол, гоняется наперегонки, бьет стекла, плачет, когда больно, и смеется, если ему щекочут живот. За ним, конечно, надо следить, чтобы чего-нибудь лишнего не натворил. Но все же он пока – человек. И так продолжается до тех пор, пока ему все не объяснят и окончательно не спеленают какой-нибудь основополагающей идеей. Все. После этого за ним уже можно не следить. После этого он готовая марионетка и делает все как надо. И думает – как надо. И сам уже способен следить за кем угодно.
А за Левитанским надо было следить постоянно. Просто глаз не спускать. Потому что он воровал конфеты из собственного буфета и все время капризничал. А это верный признак того, что в него вовремя не заложили основополагающую идею. А если и заложили, то непрочно. И она где-то по дороге отвалилась. Поэтому он страшно боялся взрослых людей с идеями.
Звонит нам как-то красивая журналистка по имени, кажется, Полина и просит дать ей, наконец, интервью. Левитанский сразу перепугался и руками машет. А почему машет, я сейчас скажу. Приземлились мы в Тель-Авиве и только сошли с трапа – журналист стоит. Хорошенький такой, молоденький, пухлый и с идеей на лице.