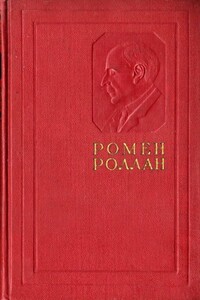Николка Персик | страница 71
- Сударь, - он мне говорит, - я третьего дня видел вашу хозяйку.
- Ишь ты! Везет же тебе, - говорю, - ну как поживает старуха?
- Прекрасно. Она отправляется. - Куда же?
- Она отправляется, сударь, бежит со всех ног в лучший мир.
- Он это свойство утратит, - заметил какой-то шутник.
Другой подхватил:
- Отходит она; но ты остаешься. За твое здоровье, Николка. Было счастье одно, а вот и второе.
Я же, чтоб им подражать (встревожился я, как-никак): - Чокнемся! Бог человека любит; Он у него отнимает жену, когда уж не знает, что с нею делать.
Но вино показалось мне вдруг горьковатым, не мог я стакан свой допить; тогда, взяв дубинку, я встал и ушел, ни с кем не простившись. Они закричали мне вслед:
- Что за муха тебя укусила?
Но я уже был далеко, не ответствовал я, сердце сжималось... Видите ли, можно старуху свою не любить, можно друг друга пилить ночью и днем, в продолжение четверти века, - но когда безносая смерть приходит за нею, за тою, которая, плотно прижавшись к тебе в слишком узкой постели, потея, грела тебя столько лет и в своем тощем теле взлелеяла семя твое, - чувствуешь что-то вот здесь; подступает к горлу комок; это как будто часть от тебя отделяется; и хоть она некрасива, хоть тебе она вечно мешала, все же больно тебе за нее, за себя, жалеешь ее... Прости, Господи! любишь...
Я прибыл на следующий день, когда уж темнело. Мне стоило только взглянуть, чтоб увидеть, как хорошо поработал великий ваятель. Из-под ветхой завесы сморщенной кожи лик смерти, угрюмый, глядел. Но еще более верным предвестием скорой кончины было то, что, когда я вошел, она мне сказала:
- Мой бедный старик, ты не слишком устал? Заботливость эта глубоко меня умилила. Я подумал: "Сомневаться нельзя. Умирает старушка. Она подобрела.
Сел я подле постели, взял ее руку. Слишком ослабнув, чтобы говорить, она глазами благодарила меня за то, что пришел я. Стараясь ее подбодрить, стараясь шутить, я рассказал ей, как я только что надул поторопившуюся чуму. Она ничего об этом не знала. Так взволновал ее мой рассказ (эх, косолапый!), что ей сделалось дурно, чуть не скончалась она. Когда же она очнулась, у нее вернулась способность говорить (слава те, Боже, слава те, Боже). И злость вернулась тоже. Вот начинает она, заплетаясь и дрожа (слова не хотели выходить или выходили совсем не те: это ее бесило), начинает она меня осыпать бранью, говоря, что с моей стороны было грешно ее не оповестить, что нет у меня сердца, что я хуже пса, что, как пес, я должен был бы подохнуть тогда, катаясь от боли на своем навозе. Выслушал я много еще таких нежностей. Старались ее успокоить. Говорили мне: