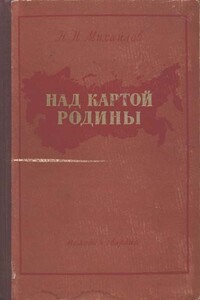Пречистенка. Прогулки по старой Москве | страница 60
* * *
Их семейное гнездышко не было, к сожалению, уютным. Зато там разыгрывались сцены немыслимые. Вадим Шершеневич писал: «Пречистенка. Балашовский особняк. Тяжелые мраморные лестницы, комнаты в «стилях»: ампировские — похожи на залы московских ресторанов, излюбленных купечеством; мавританские — на Сандуновские бани…
Есенин тычет себя пальцем в грудь.
— И я гений!.. Есенин гений… Гений — я! Есенин — гений, а Крэг — дрянь!
И, скроив презрительную гримасу, он сует портрет Крэга под кипу нот и старых журналов.
— Адью!
Изадора в восторге:
— Adieu.
И делает мягкий прощальный жест.
— А теперь, Изадора, — и Есенин пригибает бровь, — танцуй… Понимаешь, Изадора?.. Нам танцуй!
Он чувствует себя Иродом, требующим танец у Саломеи.
— Tansoui?.. Bon!
Дункан надевает есенинские кепи и пиджак. Музыка чувственная, незнакомая, беспокоящая.
Апаш — Изадора Дункан. Женщина — шарф.
Страшный и прекрасный танец.
Узкое и розовое тело шарфа извивается в ее руках. Она ломает ему хребет, беспокойными пальцами сдавливает горло. Беспощадно и трагически свисает круглая шелковая голова ткани.
Дункан кончила танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера».
К этому времени уже возникла пошловатая частушка, посвященная Мариенгофу и Есенину:
Толя ходит неумыт,
А Сережа чистенький —
Потому Сережа спит
С Дуней на Пречистенке.
Роман Есенина с Дункан здорово будоражил нервы «поэтическому цеху». А события в бывшем балашовском (на самом-то деле ушковском, только кто упомнит этих миллионеров?) принимали все более напряженный, драматический характер. Тот же Шершеневич продолжал свое повествование: «Есенин сует Почем-Соли (один из участников тогдашних поэтических досугов — А.М.) четвертаковый детский музыкальный ящичек:
— Крути, Мишук, а я буду кренделя выделывать.
Почем-Соль крутит проволочную ручку. Ящик скрипит «Барыню»:
Ба-а-а-а-рыня, барыня-а!
Сударыня барыня-а!
Скинув лаковые башмаки, босыми ногами на пушистых французских коврах Есенин «выделывает кренделя».
Дункан смотрит на него влюбленными синими фаянсовыми блюдцами.
— C’est la Russie… a c’est la Russie…
Ходуном ходят на столе стаканы, расплескивая теплое шампанское.
Вертуном крутятся есенинские желтые пятки.
— Mitschateino!
Есенин останавливается. На побледневшем лбу крупные, холодные капли».
Своеволие Есенина в этом особняке, похоже, вообще границ не знало. Полностью подчинив себе Дункан, он вытворял здесь, что хотел. Однажды Илья Шнейдер зашел в кабинет Айседоры и увидел дикую картину. Есенин держит в кулаке длинную бороду поэта Рукавишникова, а рядом стоит Айседора Дункан и не знает, что делать. При появлении Шнейдера Есенин отпустил своего «младшего брата» по цеху, а Айседора укоризненно промолвила: