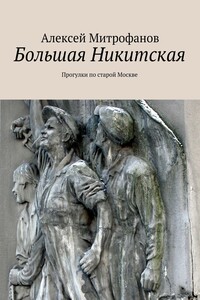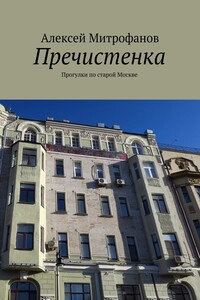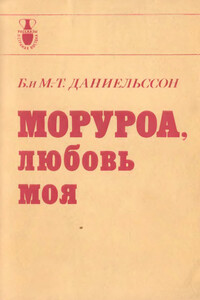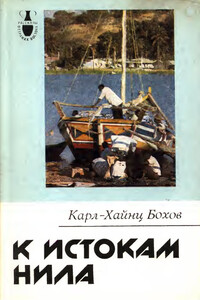Тверская. Прогулки по старой Москве | страница 73
Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту: «Вот пример настоящей удачливости… – тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека. – Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю… Что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою…”? Не понимаю!.. Повезло, повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, – стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие…».
Естественно, подобных Рюхиных всегда было достаточно.
Зато благодаря этому памятнику Александр Вертинский вылечился от кокаиновой зависимости. Он вспоминал об этом: «Я вспомнил, что среди моих знакомых есть знаменитый психиатр – профессор Баженов. Я вышел на Тверскую и решил ехать к нему. Баженов жил на Арбате. Подходя к остановке, я увидел совершенно ясно, как Пушкин сошел со своего пьедестала и, тяжело шагая «по потрясенной мостовой» (крутилось у меня в голове), тоже направился к остановке трамвая. А на пьедестале остался след его ног, как в грязи остается след от калош человека.
«Опять галлюцинация! – спокойно подумал я. – Ведь этого же быть не может».
Тем не менее Пушкин стал на заднюю площадку трамвая, и воздух вокруг него наполнился запахом резины, исходившим от его плаща.
Я ждал, улыбаясь, зная, что этого быть не может. А между тем это было!
Пушкин вынул большой медный старинный пятак, которого уже не было в обращении.
– Александр Сергеевич! – тихо сказал я. – Кондуктор не возьмет у вас этих денег. Они старинные!
Пушкин улыбнулся.
– Ничего. У меня возьмет!
Тогда я понял, что просто сошел с ума».
После этого случая Вертинский к кокаину не притрагивался.
* * *
14 августа 1950 года началась передвижка памятника Пушкину на противоположную сторону улицы Горького. Для этого на улице устроили деревянный настил с рельсами, памятник вместе с постаментом (весом более 70 тонн) приподняли, поставили на тележки, и к утру следующего дня все работы были закончены.
Интеллигенция, как водится, восприняла в штыки эту бессмысленную рокировку. Валентин Катаев, например, писал: «Для людей моего поколения есть два памятника Пушкину. Оба одинаковых Пушкина стоят друг против друга, разделенные шумной площадью, потоками автомобилей, жезлами регулировщиков. Один Пушкин призрачный. Он стоит на своем старом, законном месте, но его видят только старые москвичи. Для других он незрим. В незаполнимой пустоте начала Тверского бульвара они видят подлинного Пушкина, окруженного фонарями и бронзовой цепью, на которой, сидя рядом и покачиваясь, разговаривали в начале двадцатых годов два поэта (Есенин и Багрицкий. –