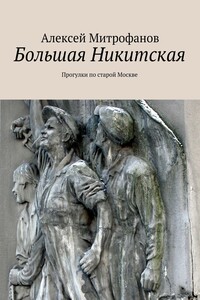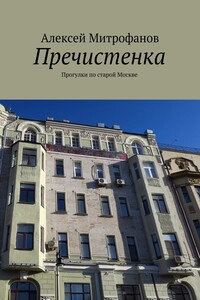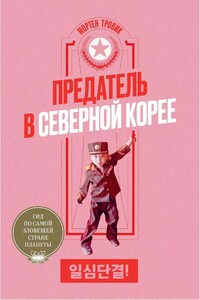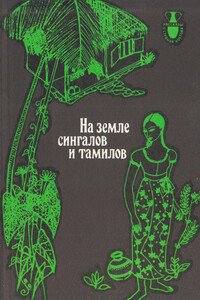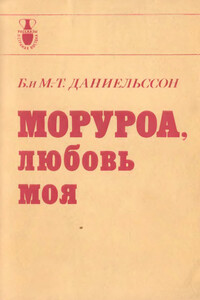Тверская. Прогулки по старой Москве | страница 63
– Провизии нет и не будет.
Алексей Николаевич вспылил:
– То есть как это не будет?! Что за чепуха?! Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте паники.
Однако двери «Елисеевского» были заперты и на них висело объявление: «Продуктов нет». А рядом чья-то рука приписала мелом: «И не будет».
Естественно, при нэпе все наладилось. Немецкий искусствовед Вальтер Беньямин, посетивший наше государство в 1926 году, писал: «…магазины, за исключением огромного гастронома на Тверской, где готовые блюда выставлены в таком великолепии, которое знакомо мне лишь по иллюстрациям в поваренной книге моей матери и которое вряд ли уступает великолепию царского времени, не слишком располагают к их посещению». В «Елисеевском» Беньямин покупал икру, лососину, фрукты и сладости.
Писатели Булгаков и Катаев, по словам последнего, выиграв немного в казино, «тут же бежали по вьюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер – непременно чеддер! – который особенно любил синеглазый и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна».
А «синеглазый», то есть Михаил Булгаков, так проникся «Елисеевским», что даже пес из повести «Собачье сердце» распознавал его: «Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины… гау-гау… га… строномия. Если темнели бутылки с плохой жидкостью… Ве-и-ви-на-а-вина… Елисеевы-братья бывшие».
Впрочем, «плохой» бутылочная жидкость казалась лишь глупым бездомным собакам.
Правда, вскоре магазин закрылся, но в 1934 году открылся вновь. И Юлиус Фучик, гостивший в то время в Москве, жаловался в письме своей супруге: «Вот позавчера здесь, например, открыли новый гастроном. Это огромный магазин в стиле ренессанс, который скорее похож на бальный зал… Но когда-то, до революции, здесь был именно гастроном, который посещала самая крупная московская аристократия и буржуазия. Говорят, что там бывало всегда полным-полно – и теперь там стоит очередь, и только в первый день гастроном посетило 14 тысяч человек. Если я дам такое вот сообщение… чем я буду отличаться от господина Бенеша, который присовокупит к нему „мудрое поучение“, что это, мол, и есть доказательство того, что в Советском Союзе все снова возвращается в нормальную колею? Да ничем. Потому что и сухое сообщение без этого мудрого поучения на неинформированного, а следовательно, на непонимающего читателя произведет такое же впечатление, как тенденциозно заостренная статья Иржи Бенеша. Я, конечно, могу спорить: нет, ничто не возвращается, потому что до революции туда ходила буржуазия, а теперь ходит пролетариат, и я буду совершенно прав. Но он, И. Б., может опубликовать – и он наверняка сделает это – прейскурант гастронома с его высокими ценами (здесь так и говорят: „гастроном“ – „астроном“) … Как объяснить читателю, что вся эта роскошь благополучия, которая сейчас появляется, представляет собой антитезу к строгому тезису героического самоотвержения, который осуществляется в начале строительства социализма… Разве моей обязанностью не является в своем сообщении показать, что именно рабочие ходят в гастроном и почему?»