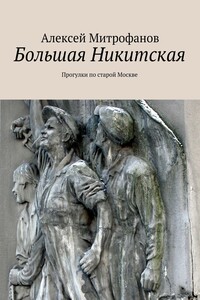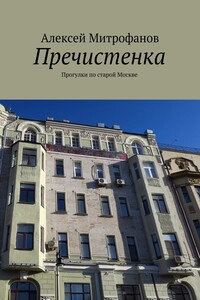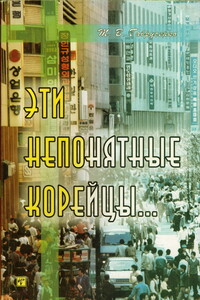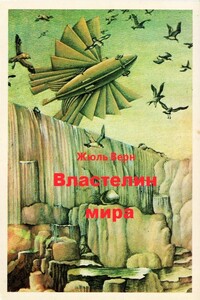Тверская. Прогулки по старой Москве | страница 50
Выяснилось, что за пару дней до этого один знакомый Долгорукова, некто г-н Шпейер, попросил у князя разрешения показать дворец приятелю-британцу. Князь, разумеется, позволил, но, на всякий случай, отрядил в сопровождение дежурного чиновника. Поскольку речь шла на английском языке, чиновник ничего не понял. Шпейер же тем временем вовсю расхваливал «товар».
* * *
А бок о бок с резиденцией Владимира Андреевича стояло заведение не менее известного и столь же колоритного жителя города, тоже князя – Льва Голицына. Лев Сергеевич был фанатичным виноделом. Он много ездил по Европе, наблюдал за тамошними виноградниками и заводами. И в результате его собственные виноградники в местечке Абрау-Дюрсо стали давать неплохой урожай, а шампанское «Абрау» даже удостоилось Гран-при на Всемирной дегустации в Париже.
Лев Сергеевич был великан, рассказчик, спорщик. Одевался по-мужицки и в любой мороз ходил без шапки. Очень гордился тем, что был «не посрамлен никакими чинами и орденами». Цены на свою продукцию он держал максимально низкими.
– Хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино, – так объяснял Голицын свою странную политику.
В магазинчике рядом с градоначальнической резиденцией бутылочка вполне приличного и натурального вина стоила 25 копеек. И в какой-то мере это, безусловно, было утешением для тех, кто в силу своего общественного положения не мог даже рассчитывать попасть на бал у губернатора.
Главный булочник страны
ФИЛИППОВСКАЯ БУЛОЧНАЯ (Тверская улица, 10) была построена в 1897 году по проекту архитектора М. А. Арсеньева. Помимо булочной здесь размещалась гостиница «Люкс».
Булочная эта славилась на всю Россию. «В булочной Филиппова на Тверской пирожок стоил пять копеек, счастье бесплатно», – писал Михаил Осоргин. Действительно, Филипповская булочная была больше, чем обычный магазин. Имя ее считалось нарицательным. Скажут «Филипповская булочная» – и сразу ясно: речь идет о лучшей булочной, она находится в Москве, и сайки, купленные здесь, едят даже цари в самом Санкт-Петербурге.
Это и вправду было так. Выпекать хлебные изделия в точности по филипповским рецептам пробовали даже в Петербурге, при дворе. Но не годилась для замеса невская вода. Владимир Гиляровский с гордостью писал о хлебнике Филиппове: «…по зимам шли обозы с его сухарями, калачами и сайками, на соломе испеченными, даже в Сибирь. Их как-то особым способом, горячими, прямо из печки, замораживали, везли за тысячу верст, а уже перед самой едой оттаивали – тоже особым способом, в сырых полотенцах, – и ароматные, горячие калачи где-нибудь в Барнауле или Иркутске подавались на стол с пылу с жару».