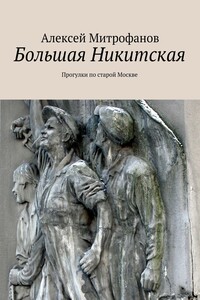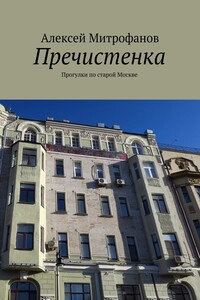Тверская. Прогулки по старой Москве | страница 122
Видимо, недаром адвокат Плевако говорил:
– Если строишь ипподром, то рядом строй тюрьму.
Кстати, «азартная» история этого места очень древняя. Она прослеживается еще с начала девятнадцатого века. Именно тут, на месте нынешнего ипподрома, находилась знаменитая в те времена медвежья и волчья травля И. Богатырева.
Поэт Лев Мей писал о разыгрывавшихся здесь страстях: «За Тверской-то травлю Богатырев держал: тот был мастер на выдумки. Раз – что же вы думаете? – объявил, что будет дикую лошадь на семь медведей пускать… Поехали мы… Видим: точно! Выпустили дикую лошадь на медведей… Как пошла косить передом и задом, так всех в лоск и положила».
В начале тридцатых годов Иван Богатырев перевел свою травлю на восток, за Рогожскую. Здесь же в 1834 году молодое тогда еще Общество конской скачки получило в собственность 121 десятину земли. Именно эту дату можно считать временем рождения нашего ипподрома.
Само же здание было построено в 1896 году по чертежам мало чем известных и знаменитых, но довольно профессиональных архитекторов – С. Ф. Кулагина и И. Т. Барютина. Очевидно, в это же время начало Беговой аллеи украсили две статуи – «Диоскуры, укрощающие коней». Это вольные копии известнейших клодтовских коней с Аничкова моста над Фонтанкой, сделанные К. А. Клодтом-внуком в соавторстве с С. М. Волнухиным, автором памятника первопечатнику Ивану Федорову.
Владимир Гиляровский писал о дореволюционном ипподроме: «Воспоминания роятся и свертываются в клубок, и яркими гирляндами и живыми цветочными клумбами рисуются пять этажей трибун, полных в день дерби легкими платьями дам, огромный партер вдоль всего этого ажурного железного здания, которое ни с какой постройкой и сравнить нельзя… Ну а с чем можно сравнить „ирландский банкет“ посредине? Это головоломное препятствие, на которое решались скакать только самые отважные спортсмены… Высокий вал между двух широких канав. Лошадь скачет сначала через одну канаву на гребень вала, а с него уже вторым прыжком берет вторую канаву, за два раза перепрыгивая в ширину более семи метров и всегда теряя около минуты на этом препятствии. Нередко на нем ездоки и кости ломали, и лошади калечились».
Что ж, конный спорт – это не шахматы какие-нибудь, а достаточно рискованное времяпровождение.
Неудивительно, что ипподром стал чем-то вроде широкомасштабного и, более того, широкопрофильного спорткомплекса Москвы. В частности, в конце девятнадцатого века рядом с ним оборудовали циклодром – гоночный круг для велосипедистов (или же циклистов, как тогда говорили). Да и на самом беговом круге проходили состязания весьма далекие от конных игрищ, иной раз больше напоминающие пресловутую богатыревскую травлю. Антон Павлович Чехов, к примеру, будучи еще начинающим корреспондентом, писал об одном таком мероприятии – травле волков собаками: «Говорят, что теперь девятнадцатое столетие. Не верьте, читатель… Первый час. Позади галереи толпятся кареты, роскошные сани и извозчики. Шум, гвалт… Экипажей так много, что приходится толпиться… В галереях конского бега, в енотах, бобрах, лисицах и барашках, заседают жеребятники, кобелятники, борзятники, перепелятники и прочие лятники, мерзнут и сгорают от нетерпения. Тут же заседают, разумеется, и дамы… Хорошеньких, сверх обыкновения, почему-то очень много… На верхних скамьях мелькают гимназические фуражки. И гимназисты пришли посмотреть, они тоже сгорают от нетерпения и постукивают калошами…