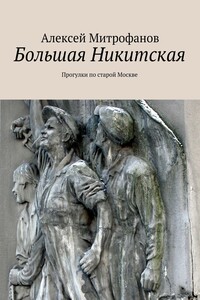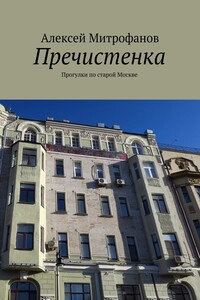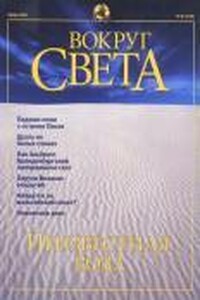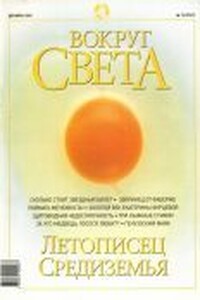Тверская. Прогулки по старой Москве | страница 105
И в том же 1911 году холодною зимой в наш город прибыл британский театральный режиссер Гордон Крэг. Встречавшая его мхатовская делегация пришла в волнение. Еще бы – он, не ожидавший столь жутких морозов, сошел с поезда в легоньком демисезонном пальто с изящной, но вполне символической шляпой на голове. Автомобилей с отоплением в то время не существовало, ехать предстояло на извозчике. Часть делегации сразу отправилась в театр за теплой одеждой, а бедного Крэга повели в буфет – отпаивать целительной водкой.
Посланные за одеждой честно выбрали самое теплое – огромную боярскую шубу и высокую боярскую же шапку времен государя Ивана Васильевича. Уже порядочно набравшегося Крэга облачили в это одеяние и повезли в гостиницу, а москвичи испуганно бросались в переулки, видя, что в санях сидит пьяненький древнерусский боярин и горланит песни на непонятном им английском языке.
Для многих тот вокзал был своего рода последним шансом на выздоровление – ведь именно отсюда отправлялись страждущие на многочисленные европейские курорты. Их проводы, конечно, проходили без особенного пафоса. Анастасия Цветаева писала в своих мемуарах: «В весенний день моих четырех с половиной, Мусиных (то есть ее сестры, поэтессы Марины Цветаевой) шести с половиной лет мы провожали больного дедушку на Брестский вокзал. Он ехал за границу лечить рак желудка. Из окна вагона дедушка сказал: „Ну, подавайте мелюзгу…“ Нас ввели в вагон. Поочередно он поднял нас на руки, поцеловал. Его желтые щеки были худы».
А «Муся» посвятила этому вокзалу поэтические строки:
Впрочем, Европа не всегда являлась символом цивилизации. Когда начиналась война, ее образ менялся, и Европа превращалась в кровожадного врага. Естественно, что с наступлением Первой мировой войны сменился также образ Белорусского вокзала. В. Вересаев в одном из рассказов писал: «Чернела посреди улицы огромная триумфальная арка (та самая, которая сегодня украшает Кутузовский проспект. – АМ.). Налево, в глубине понижавшейся площади, громоздились купола и башенки, светились огненные циферблаты часов. Вокзал… Здесь, тому два месяца, Марья Петровна провожала сына на войну.
Сама для себя незаметно, она очутилась на вокзале, походила по буфетной комнате и вышла на пустынные перроны под железными навесами. Сторожа с бляхами мели длинными метлами темный асфальт. На отдаленной платформе под светом электрических фонарей темнели толпы солдат, пробегали санитары с красными крестами на рукавных повязках.