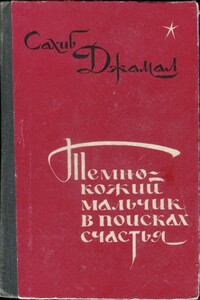Живущие в подполье | страница 103
— Тогда другое дело… А что ты скажешь, Васко, о человеке, который предал, потому что задавал вопросы?
Азередо тоже вопросительно посмотрел на молчавшего Васко, и, хотя побаивался его колкостей, не смог удержаться от возгласа:
— Ты сегодня плохо выглядишь, или мне так кажется? — и, не дожидаясь ответа, стал жевать смоченный в соусе кусок хлеба, на который Гуалтер поглядывал с жадностью, а потом снова ринулся в бой, не испугавшись ножа Пауло Релваса: — Говорите что угодно, а Гомес — человек слова. Содержать трех женщин сразу — это не шутка.
Азередо расстегнул верхнюю пуговицу пиджака, и его рубашка запестрела, как арена для боя быков. Васко решил, что подходящий момент настал. А не поступит ли он опрометчиво? Если бы можно было обойтись без этого евнуха… Но как тогда встретиться с Жасинтой? Сантьяго Фариа откинулся на спинку стула, заложив пальцы за жилет с равнодушным и надменным видом, вызывавшим восторженную зависть его приспешников. Столь же равнодушно прозвучали и его слова:
— Мы начинаем охотиться за ведьмами. Потомки нас пожалеют или просто посмеются над нами.
Это было слишком, и Релвас пошире расставил локти, отвоевывая пространство на квадратном столе.
— Кой над кем и посмеются, не сомневаюсь. Над нашей дерьмовой страной и дерьмовым народом.
Зануда этот Релвас, думал Азередо. Дутый герой. Не так давно его окатили краской из шланга («Новый костюм, понимаете ли, но я с этим не посчитался»), когда он храбро бросился на полицейских, которые охлаждали ярость толпы синими струями; а на следующий день, когда он правил в редакции гранки с сообщением о незабываемом визите министра на электростанцию в Лоурозе, та же толпа, та же ярость снова запрудили улицу, подставляя себя под пули; он правил гранки, неудобно скрючившись, «из-за фурункулов, друзья, из-за проклятых фурункулов», а за окнами нарастал шум толпы, страх, заставляющий убивать, и ярость, заставляющая идти на смерть, — он правил гранки, время от времени стискивал руку коллеги из спортивного приложения, с которым сидел за одним столом под пятидесятисвечовой лампой, и, брызгая слюной, кричал в порыве благородного негодования: «Не удерживайте меня, я слышу их, моих братьев! Не удерживайте меня, я должен идти, чтобы умереть с ними!» Релвас стискивал руку коллеги, его воловьи глаза растерянно бегали, и никто, если уж говорить начистоту, его не удерживал и не собирался удерживать, и меньше всех спортивный обозреватель; вот разве что страх, ведь шум на улице уже достигал второго этажа, где размещалась редакция газеты, и наконец обозреватель сказал: «Иди, Пауло Релвас, тысяча чертей тебе в бок, я этому мешать не стану!», и, выйдя не улицу, Релвас оказался в двух шагах от метро, убежища для гнева, успокоителя панического страха, куда и ринулся, не раздумывая. И все же после тех событий у Релваса остался красноречивый трофей — забрызганный краской новый костюм. Все, кто приходил к Релвасу в его мансарду на улицу Дас Претас, должны были восторгаться этим свидетельством беспримерного самопожертвования и героизма. «Видите этот костюм? Он был совсем новый!» В конце концов завсегдатаи кафе, интеллигенты, на которых в полиции были заведены особые карточки, что было почти равнозначно аттестату гражданственности, и которых мучила совесть оттого, что их сопротивление фашизму не шло дальше лирических од, впрочем подвергавшихся строжайшей цензуре, создали вокруг Релваса ореол бойца, получившего боевое крещение. А это позволяло ему, беспрестанно напоминая о своей отваге, обрушиваться на людей, которые не могли осуществить или откладывали на будущее свои благородные порывы, которым кровопролития ослабили волю, или на тех, кто пытался интригами заглушить горечь разочарований, тех, кто отравлял других, чтобы не отравиться самому.