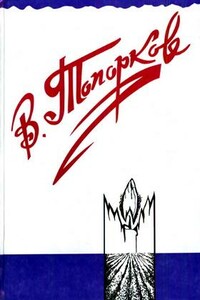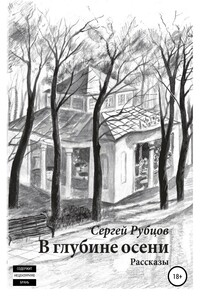Щепоть крупной соли | страница 44
— Мама, мама, посмотри, кто к нам припожаловал!
А сестра, разложив на полотенце миски и деревянные ложки, звала нас:
— Идите полдничать, работники.
В воскресенье мать снова отправилась к тетке Даше. Теперь в душе я молил бога, чтоб она не продала гармонь. Как-никак, сестра на поправку пошла, а где такой инструмент, как говорил дядя Макар, найдешь? Но мать, вернувшись, с порога заголосила:
— Ой, лишенько лихое, украли у тетки Даши нашу гармонь!
И вот теперь она была снова у меня в руках, памятная гармонь с металлическими уголками, с мехами в розовом сатине, до боли знакомая и родная. Выходит, она и не пропадала?
Демьян Семенович погасил свечу, пришлепал в свою комнату, а я завороженно сидел на шкафу, рассматривал гармонь. За полтора года она покрылась толстым слоем пыли, словно поседела от времени и переживаний. Бережно прикасаясь к ней, искал я объяснений, как и зачем оказалась она здесь, для чего надо было говорить тетке тогда, что гармонь украли нечестные люди. Выходит, нечестными не люди оказались, а наша разлюбезная тетя Даша.
В памяти всплывают отечное лицо Шуры, ее ватные ноги, на которых от прикосновения остаются глубокие ямки, вспухшие от слез глаза матери, и я решительно прыгаю вниз, стаскиваю проклятый ящик. С минуту я стою в недоумении посреди комнаты, потом хватаю со стола нож — Демьян Семенович, видно, забыл — и остервенело начинаю кромсать им мехи любимой моей гармошки. Не объяснить, зачем я это делаю, скорее всего, чтоб не досталась она никому, чтоб знала тетка, что ее воровство раскрыто. Гармонь, как живая, протяжно вздыхает от каждого моего удара, но я неудержим. Останавливаюсь я только тогда, когда Демьян Семенович, привлеченный шумом в комнате, круто поворачивает меня к себе, орет:
— Ты что делаешь, щенок?
Я задыхаюсь от злости, хочу что-то сказать, но с губ слетает только шипение. Потом я приседаю, сбрасываю с себя руки Демьяна Семеновича, выскакиваю в коридор, хватаю шинель, наскоро обуваюсь и вываливаюсь на улицу. Грязь летит из-под моих мокроступов в разные стороны, серебрится под лунным светом на шинели, но я не обращаю на это внимания. Я шагаю в общежитие, подальше от теткиного дома, где осталась истерзанная гармонь, и мне кажется, что и в мою грудь кто-то безжалостно всадил нож.
Дукат
Домик наш, деревянный, рубленный еще до революции из ольхи и служивший надежным приютом для всей многочисленной семьи, вдруг после войны стал оседать, как подкошенный гриб. Наверное, у домов, как и у людей, наступает такой срок, когда ослабевает воля, утрачивается характер, разрывается та крепкая нить, которая связывает с жизнью.