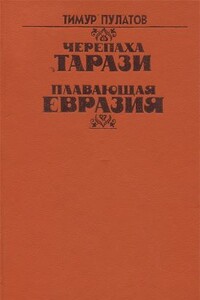Жизнеописание строптивого бухарца | страница 92
И вправду, должно быть, все это затеяно, чтобы оторвать его наконец от дома, матери и Амона, от памяти бабушки — так Душан безболезненно отправился в свой интернат… Туда, где жизнь совсем непохожа на знакомую ему, узнанную и пережитую, да, наверное, все так и есть, думал Душан. И если судьба его меняется теперь резко, теряя естественное свое течение от вещи, от дня, понятого им и прочувствованного, к вещи и дню чужому, далекому, насильно данному, значит, он должен не жить вольно, полной грудью, а просто быть, чтобы перетерпеть и выжить.
Надо сделать вид, что ты с ними, добрыми воспитателями, о которых, будто зная каждого лично, так много рассказывала мать, с внимательными и умными мальчиками, которые столь деликатны и душевны, что с радостью примут его в свой круг и ни словом, ни взглядом никогда не обидят.
От этих подробных рассказов матери, несмотря на их красочность, все же веяло чем–то неестественным, надуманным, и Душан уже заранее воспринимал интернат как место, где лучше казаться, чем быть, ибо место это заданное, давно еще, до него, устоявшееся, со своим бытом и жизнью, которую Душан не пережил и потому боялся.
Но он был уже в таком возрасте, когда, несмотря на внешние черты простодушия и непосредственности — черты детства, — в нем внутренне, исподволь оформлялся отрок — самый переменчивый, меланхолически опасный возраст, когда не только образ мыслей Душана, но и сам его вид часто вводил в заблуждение. В такие тяжелые, нервные дни он, наоборот, казался отдохнувшим, дух как бы освещал лицо Душана, делая его загадочным, даже обаятельно–красивым, будто внутренняя энергия, истраченная на суету и волнения, подстегивала его, воодушевляла, словно нервная жизнь и была его стихией, а умиротворение и лень утомляли мальчика.
Даже мать ошиблась — в то утро, когда они уезжали, ждала капризов, упреков, а вышла во двор, взглянула на сына и порадовалась, удивившись тому, как он спокоен и хорошо выглядит. Но, едва машина отъехала от дома и повернула на главную улицу, чтобы увезти его в местечко Зармитан, горечь отпустила Душана, словно все его тревоги передались теперь матери, которая в эти предотъездные дни казалась суетливой и равнодушной к нему. Мать сжала его руку и вся задрожала, будто никак не могла собрать в себе горечь, чтобы заплакать. Душан же, почувствовав облегчение, как бы отстранился от ее тревог и уже думал о том, как встретят его в Зармитане. Должно быть, впервые за все время его жизни что–то переместилось в мальчике, перестроилось, слабость и малодушие согнулись, чтобы сделать его характер гибче, а сознание объемнее, и все это движение и родило в нем простую и успокоительную мысль: «Ничего… надо все перетерпеть, прожить…» И хотя это было повторением когда–то сказанных слов бабушки или отца, не понятых и не оцененных тогда Душаном, сейчас они, дремавшие в глубине сознания как ненужное, вдруг проснулись, вспомнились и пошли, чтобы сделать причудливый ход, тронуть его за живое и выразить чужими словами и премудростью то, что он сам чувствовал теперь.