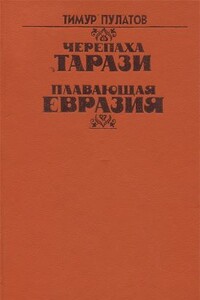Жизнеописание строптивого бухарца | страница 80
— Сумасшедший! — закричал Амон, сконфуженно глядя на брата, ему стало не по себе от этих странных слов. — Боже, что у тебя в голове! — сказал он отчаянным тоном матери и так же, как она, всплеснул руками.
— Я не отвечаю, это зло будет записано тебе. А теперь я выйду из тебя и буду сам по себе, каким родился, — сказал Душан и, повернувшись, пошел обратно, чувствуя, что будет бит — ведь никак по–другому не могла закончиться эта история.
— Ах, значит, я злой, я дурной?! — Амон ударил его сзади и повалил на траву и ногами бил, говоря: — Выходи из меня, выходи — чистый, святой!
Душан лежал, сжавшись, ничего не ощущая, ни боли, ни обиды, а когда Амон побежал в дом, сразу не поднялся, чувствуя, как сделалось ему легко после побоев брата, ушла вина, все это глупо и ничего не было, унесло временем вместе с суетой, страхами, маленькими хитростями — и так просто и немучительно, как если бы человек вдруг осознал себя другим выросшим, окрепшим.
«Глупо уходить в других, чтобы они отвечали за твои проделки, жестоко», — подумал Душан.
Амон сидел на том самом месте, где Душан после сна, и смотрел, как брат поднимается, и, верный своей медлительности и спокойствию, будто ничего не случилось, отряхивает с себя траву и сор, и идет в его сторону. Глядя на его серьезно–иронический вид и подумав, что, если бы даже Душана убивали, он бы все равно заботился, чтобы одежда его была чиста, без соринки, Амон улыбнулся и поспешил сказать:
— Пошли к зарослям? Нас ждут…
— А завтракать?
— Скажем, наелись абрикосов.
На тропинке Душан вспомнил о заветном своем камне, глянул под дерево, под куст, но не увидел и решил как–нибудь прийти самому и поискать — не хотелось отставать и злить опять брата, надо с ним ласково и по–доброму, ведь теперь, когда он вышел из брата и освободился от перевоплощения, Амон останется один, чувствуя горечь от потери.
Братья смутились, когда увидели, что вчерашних мальчиков нет возле зарослей — тишина и душно. Амон свистнул, но никто не вышел из–за кустов, братья затосковали и сели в тени. Что случилось? Неужели мальчики ушли посмотреть без них на проделки страшной женщины, на человека, которого она подняла к себе на дерево, думая зажарить в печке, но поленилась и высушила на ветру?
Тишина необычная, совсем не такая, как в городе в час, когда утро торжественно переходит в день. От птиц и бабочек, от шороха листвы и трав идет сплошной гул, без отдельных звуков, без мелодий, ни одной паузы, чтобы можно было уловить звук упавшего плода или свист птицы, — высшая божественная тишина. В городе же, где слышны одни лишь разрозненные звуки после пауз — загудит машина или ударит металл, даже голос слышен издалека, и тишина там низшая, утомительная, здесь же только звон в ушах — звуки тела, которое без устали растет.