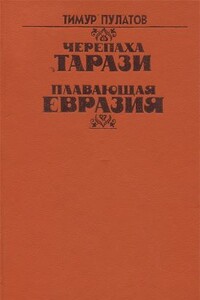Жизнеописание строптивого бухарца | страница 53
Бабушка изумленно заметила, что не Душан, а Амон с возрастом все больше становится похожим манерой говорить, походкой и даже выражением лица на деда–судью. Казалось ей, что внук попал на жизненную дорожку, проложенную дедом, и теперь должен многое повторить в его судьбе, и, глядя, как Амон растет, бабушка узнавала, каким был дед до того, как она увидела его впервые, всю длину его жизни, от рождения до смерти, и, должно быть, ее радовало ощущение того, что дед оказался не пришедшим к ней из чужой семьи, а был вроде родного брата, с которым она вместе росла и стала ему не просто женой, «матерью Мастуры», а сестрицей…
Неужели дед–судья умел быть таким надменным, каким становился Амон, слушающий, как бабушка читает и переводит с арабского старые письма из музыкального сундучка, посланные когда–то деду с просьбой смягчить наказание или помиловать.
— «О ласкающий рабов! Рабская челобитная от низкого из рабов, богомольца за Ваше здравие, стремящегося доставить Вам довольство, раба Вашего Истам–ходжи, моему господину в надежде на согласие и милость в том, что я тысячу раз пожертвовал бы собой за дорогую благословенную голову моего господина. О господин, о ласкающий рабов! С тысячью бессилий и смущений, подобно тому хромому муравью, который принес премудрому Сулейману ляжку саранчи, я подношу в знак рабства и моления за Вас одно блюдо с хлебом, семь голов сахару, семь пачек чаю, семь ящиков леденцов, пять блюд с фруктами — каковые представил в ученый дом моего господина, о чем рабски и докладываю… Я грешен, виноват, простите… Я грешен, виноват, простите… Я грешен, виноват, простите…» — повторялось в этом письме семикратно, и все то время, пока бабушка читала, а Амон воображал себя надменным судьей, к которому обращались с мольбой, Душан не мог избавиться от впечатления, что кто–то пытается его унизить, смущало и беспокоило мальчика, может быть, это повторяющееся «я грешен, виноват, простите», а может, взволновал его образ хромого муравья, несущего судье ляжку саранчи, и бабушка, заметив, каким он становится впечатлительным после чтения таких старых прошений, пыталась успокоить внука:
— Но так писали давно. Видишь, здесь дата. По сегодняшнему счету: тысяча девятьсот четвертый год.
Это: тысяча девятьсот четвертый год — ничего ему не говорило, было у него совершенно другое ощущение времени — не в протяженность, из года в год, по возрастанию, а так, как будто время сгущалось и уплотнялось, и когда однажды какой–то взрослый на улице, видя, что Душан пытается залезть на дерево, крикнул ему: «Осторожно, убьешься!» — услышал сдержанный и уверенный ответ: