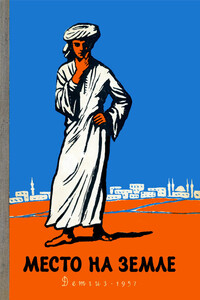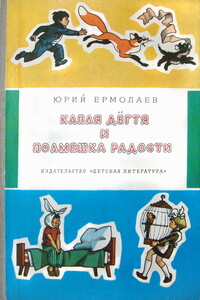Лесные сторожа | страница 52
Иногда где-нибудь на вершине горы Дима вдруг обрывал песню и глядел, как проваливалась вниз, в долину, голова гурта, оглядывал облака, нависшие на гребнях далеких гор, и громко не то говорил, не то выпевал: «Эх, душа русская, что тебе надо?» Как-то я заметил, что даже Алексей Тихонович заслушивается его песнями, а бараны во время его пения застывали на месте и переставали жевать жвачку.
К вечеру, после дневного перегона, мы обычно искали старые лежки. Их находят по круглым навозным камушкам, разбросанным вокруг, по сухому пеплу сгоревшего костра, по клочкам бумаги, консервным банкам. Мы развьючивали быков, ставили палатку, доставали продукты. Где не было дров, там топливом нам служил аргал — сухие навозные лепешки.
Ночь быстро окутывала горы, темнота как бы придвигала их к нам. Костер горел без искр, его блики ложились на наши обострившиеся лица, освещали полог палатки, брошенные в беспорядке седла. Однажды я сидел у костра и мешал ложкой булькающую в ведре кашу, а Дима, подстелив свой ватник, лежал на спине, разбросав в стороны руки. Глядя в черное, беззвездное небо, он стал выговаривать бригадиру:
— Сухой ты человек, Тихонович. И откуда у тебя берется такая черствость к людям? Я, губа-дура, встречу человека, — и хочется ему ласковое сделать, доброе. А девушек так на руках бы всех носил! Всем бы встречным говорил «спасибо», а ты, как краб, все бочком, бочком… С недоверием. Машу зря обидел. А что она сделала тебе плохого?
Алексей Тихонович укладывал гурт. В темноте мы его не видели. И оттого, что его ответные слова пришли к нам из темноты, из ночи, и не было видно даже его знакомых неласковых глаз, щек с двумя привычными морщинами-скобами, его пустого рукава, приколотого заржавленной булавкой, ответ показался мне особенно грубым и обидным.
— Не тебе меня учить. Тонок больно, — сказал он Диме. Обломаешься. Нагляделся я на этих девах. Не пять лет на свете прожил, пять десятков.
Дима ничего не стал возражать, только подсел ко мне поближе.
— В городе сейчас, губа-дура, красота, люди в кино идут. А здесь скоро бараном станешь. Пойти бы сейчас с Машенькой на танцы, надеть новый костюм, рубашку, сказать ей: «Позвольте пригласить вас, сеньора, на танец», — и потом на ушко: «Милая, я люблю тебя!»
Кашу съели быстро и сразу же завалились в палатку на отсыревшую кошму спать, а Алексей Тихонович, чья очередь была дежурить, всю ночь вышагивал, как часовой, вокруг гурта, бранясь вполголоса на осень и стужу.