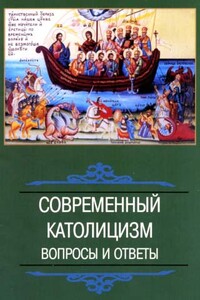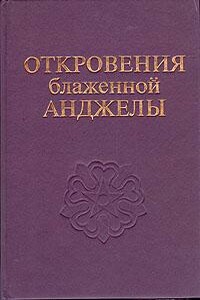Католическая церковь и русское православие. Два века противостояния и диалога. | страница 26
Без сомнения, Луи Ботен, как и многие его современники, питал много иллюзий, из-за которых в определенной мере склонялся к своеобразному богословскому релятивизму. Именно это заставило иезуита Розавена упрекнуть его в отсутствии «точности» и «аккуратности» в вопросах учения по причине «непродуманности» его исследований. Несмотря на это (возможно, излишне строгое) суждение, нельзя не поставить ему в заслугу то, что страсбургский богослов сохранил контакт с русским православием в то время, когда в Европе было так распространено религиозное рвение.
Миссии фон Баадера и Мещерского, движущей силой которых было одно и то же желание следить вблизи за развитием религиозно-культурной мысли на Западе, в конце концов пришли к тому, что поставили вопрос о возвращении к единству церкви. В ходе контактов между русским православием и католичеством эта проблема рассматривалась уже не в терминах обращения, как в прошлом, но на основе равенства и одинакового достоинства двух церквей. Это и было главным итогом их деятельности, который открывал множество благоприятных перспектив.
3. Уваров: идеолог в действии
Главным участником «разговора» с католическим Западом, который развивался между Петербургом, Мюнхеном и Парижем, был Уваров. Быстро добившись господствующего положения на российской политической, культурной и религиозной сцене, он занимал пост министра народного просвещения с 1833 года и вплоть до кризиса 1848-1849 годов и за это время развил идеологию русского царизма, которая господствовала с эпохи Николая I вплоть до конца самодержавия в 1917 году. Его деятельность оказала решающее влияние и на церковь.
2 апреля 1833 года Уваров выпустил обычный циркуляр, который был доведен до сведения профессоров и преподавателей. В нем он не только присвоил себе право вмешиваться в сферу свободы совести, но и открыл путь к совершенно новому пониманию взаимоотношений главных идеологических принципов Российского государства, предписав: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности». Через десять лет, в 1843 году, он писал, подводя итог развитию своей мысли:
«Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог счастья общественного и семейственного. Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического существования России... Наряду с сими двумя национальными началами находится и третье, не менее важное, не менее сильное: народность. Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущие, но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице Русского царства». И если понятие народности со временем изменяется, «довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий»