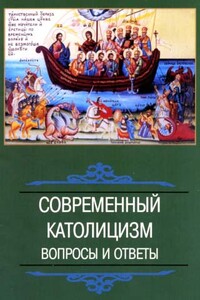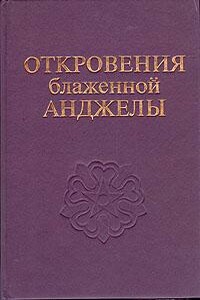Католическая церковь и русское православие. Два века противостояния и диалога. | страница 25
Этот страсбургский богослов, человек глубокой духовности, хотя иногда и слишком экзальтированный, ввиду своих платонических и августинианских склонностей пытался разрешать проблемы своего времени в истинно католическом духе, стараясь поддерживать единство мысли и жизни. В частности, он стремился продемонстрировать полную непротиворечивость церковного учения, показав, как оно может объяснить загадки природы и человеческой жизни. Помимо мелких исследований, самым полным выражением его взглядов стал труд La philosophie du Christianisme (Философия христианства), изданный в 1835 году. По мнению Ботена, церковь — это то место, где человечество обновляется во Христе, который ее создал и чьим представителем на Земле является его викарий. Будучи хранительницей слова Божьего, которое она безошибочно толкует, церковь является также и человеческой реальностью, «беспрерывной цепью законных пастырей». В этом его мысль смыкается с позициями Шлегеля, просвещенного неофита, а в особенности, с воззрениями фон Баадера и Адама Мёлера.
После первых встреч с этим своего рода религиозно-культурным посланником, каким был Мещерский, Ботен в своем фидеизме, из-за которого он в конце концов заслужил порицание от Святого Престола (20 декабря 1834), доходил до высказываний вроде этого, сделанного 4 апреля 1834 года:
«Ведь французы, русские, все прочие народы, какие только есть, — мы все люди, и прежде всего христиане, члены огромной семьи — вселенской Церкви, тела Иисуса Христа, к которой мы должны принадлежать ради жизни вечной. У нас один Господь, одно крещение. Господь пожелал, чтобы у нас была одна вера и одна Церковь, в которой нет ни Востока, ни Запада, ни Юга, ни Севера, но единая семья, цельное единство».
И в первую очередь он, конечно, не замедлил выразить свое искреннее возмущение позицией Ламенне, спросив себя: «Куда же он ведет?» Понятно, таким образом, почему за трудами Ботена так внимательно следили в России, — благодаря именно Мещерскому. Как любезно сообщил мне А. Никитенко, одна из его статей появилась в официальном Журнале Министерства народного просвещения в третьем номере за 1834 год, и поскольку он считал, что любая философия бессмысленна, в то время как все должно было быть ведомо Богу, министерство предписало, чтобы все университетские преподаватели философии в своих лекциях руководствовались этой статьей.
Контакты, установленные Мещерским, поддерживались и из Петербурга благодаря человеку еще большей учености, А. Н. Муравьеву, поэту и автору книг о путешествии по Святой земле, работ по литургике и истории церкви, который позже будет весьма заметной фигурой в полемике с Римской церковью во время кризиса 1853-1856 годов. Между ним и Ботеном завязывается переписка о воссоединении церквей, и Муравьев пишет из Петербурга 4 сентября 1836 года: «Люди вроде меня только жалеют об этой фатальной разъединенности Церкви». Ботен отвечает ему 29 ноября 1836 года письмом в том же духе, но с большей горячностью. Потом Муравьев в письме от 22 декабря 1836 года выражает сожаление, что Римская церковь, уже три века занятая борьбой с Реформацей, «совсем потеряла из виду свою восточную сестру». И Ботен в присущем ему духе фидеизма с готовностью соглашается, что «на самом деле учения нас не разделяют. Разделяет нас лишь вопрос юрисдикции, вопрос о первенстве, и, конечно, никто не должен обсуждать его по отношению к церкви Рима, основанной апостолами»