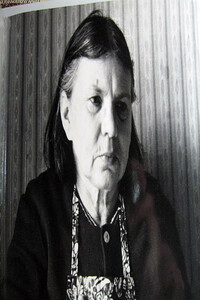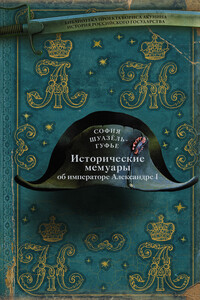Антон Павлович Чехов | страница 11
В жизни и современной ему литературе Чехов ищет «людей подвига, веры и ясно сознанной цели», людей, решительно не похожих на тех нытиков, пессимистов, скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, равнодушных философов-идеалистов, либералов или консерваторов, с которыми приходилось сталкиваться на каждом шагу. Тогдашние настроения Чехова отразились в его статье о Пржевальском (1888). Он писал в ней: «В наше больное время, когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают» (VII, 477).
Пресная, скучная, мрачная жизнь опротивела, общество испытывало нужду в героическом, ярком. Обязанность пробуждать и постоянно поддерживать в людях жажду жизни и полезной общественной деятельности Чехов возлагал прежде всего на художественную литературу и театр.
В записной книжке Чехова среди множества заметок есть такая: «...все мы народ и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное» (XII, 199). Служить интересам народа и родной страны, проводить в массы народа «знание и гуманные идеи», решать большие, серьезные общественные задачи, воспитывать людей в любви к свободе и правде, внушать им ненависть к к гнету и лжи — в этом Чехов видел прямой долг художественной литературы. Несколько позже устами своего героя Чехов скажет: «Ведь я не пейзажист только, ведь я еще гражданин, я люблю родину, народ, чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и проч.» (XI, 167).
Беспокойные мысли о народе, его страданиях, «о правах человека» привели Чехова к решению отправиться в тяжелое и длительное путешествие на остров Сахалии — в «место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный» (X, 496). Это решение возникло в самом начале 1890 года. Чехов тотчас принялся за чтение и изучение «сахалинской» литературы. «Целый день сижу, читаю и делаю выписки. В голове и на бумаге нет ничего, кроме Сахалина», — сообщает он Плещееву в феврале (XV, 17). Знакомство с постановкой тюремного дела в России и со всеми материалами о Сибири и Сахалине еще больше убеждало Чехова в преступности и противозаконности государственного и общественного строя в России. Чехову стало ясно: кровавая власть царя покупается ценою миллионов человеческих жизней. Незадолго до отъезда Чехов писал: «Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски...» (XV, 30).