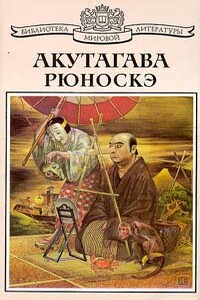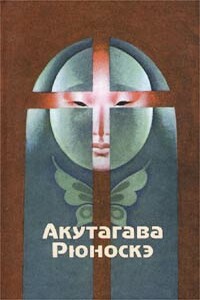Шесть повестей о легких концах | страница 9
К ней. Переменилась. Смотрит не в него и не поверх — в себя. Глаза остались, по привычке, но не лукавство в них — пустота. Зябкая — углы платка всё подбирает локтем. Говорит отчетливо, далеким голосом, как в телефон:
— Я вас так ждала тогда… А вы сидели над вашей жестью… Теперь уж поздно… Я не любя любила — как вещь.
И очень тихо — себе, после телефона — нет, ему — он мог бы быть отцом — он не был — с нежностью отчаянья — едва:
— Я вся в другом… Я жду ребенка…
Ребенка? Сына Витриона? Белов встает, чумея. Притоптывает. Чтоб себя добить:
— Когда это случилось?
— В тот вечер. Вы бросили, заболели. Мы отнесли его вдвоем. И он остался.
Не слышит. По бульварам. Бежит кольцом. Здесь должен был идти другой, дивить и наводить порядок. Взлезает на беседку, где когда-то солдаты играли попурри, а теперь заходят по простым делам. Вещает:
— Род Витрионов продлен!
У Никитских кидается на мотоциклетку, прислонившуюся в изнемождении к стене:
— Стрекочешь? Дышишь? Сыночек!
Мотоциклетка — реввоенсовета. И вообще безобразить нельзя. В сына никто не верит. Темнота. Обида. Чужие руки, клещи, углы и долгая мучительная тряска по всем горбам московских мостовых. Подъем, кружится голова. Наземь. Прощай любовь! Уже поздно. Холодное, замученное темя. Половицы крашеные. Тишина.
Дней нет — есть день. Белов девически застенчив, мудр и кроток. Даже Федотова, самая злая сиделка, его порой с ложки кормит пшенным отваром. Он сам не ест. Понимает — надо, но забывает. Только взял миску — уж сон, и гуд, и мелкие мурашки. Паром подымается.
Сначала он томился. Ласкал шары от клумб, звоночек, кружку и всякую пустую, завалящуюся вещь. Всё это — дети. К груди подносил, баюкал, звал Витеньками и над каждой трещиной немало горевал, как мать над детской хворью. И рвался в мир, где вещи ходят, вертятся, растут, где безусловно по ночам от Страстного и вкруг по всем бульварам проходят караваны дисков и углов.
Теперь спокоен. От ясности колени гладит и щурит слегка глаза. Он — патриарх, родоначальник тысячи колен, великий извлеченный корень. Впервые присмотрелся к людям — увидал — все — дети Витриона, только в глупых, мягких масках. Не тело — жесть нагретая до пота. Шаг. Пол-оборота. Спокойно. Сон. Скрежет. Скреб. Смерть.
Глядит в окошко на Москву: крыши, трубы, дым, суета. Прекрасное гнездо из жести. По вечерам он слышит — дребезжит и кружится, и плачет большое сердце из стекла.
Сейчас тепло. Темнеет. Белов считает трубы: четырнадцать, семнадцать. Дальше трудно. А прошлое свое — пустырь и дом на слом. Редко, редко из кирпичного желудка ветер выхлестнет лоскут обоев — детская, китаец сквозь сетку — другой лоскут — зеленый. Тепло. И Белов рад. Рад, что родил большое жестяное племя. И больше рад еще, что он не с ним, а здесь, на койке у окна. Нахлынула густая теплота, от живота земли. Зеленый лоскуток и волосы в сторону, водометом.