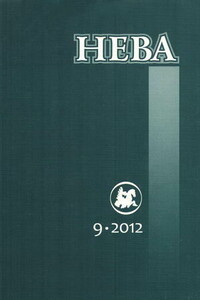Переполненная чаша | страница 129
— Слушай, — сказал мне Скот, — именно на стыке тех лет в Киеве судили группу изменников. Предались гитлеровцам. Служили в зондеркоманде. Истязали советских людей. Расстреливали. Сжигали целые села… Среди подсудимых был некий Каминский. У тебя имелись родственники на Украине?
Любавин, видимо, решил, что будет драка. Он стоял сбоку от нас, а тут одним шагом оказался плечом к плечу со мною. Но я драться не собирался. Я так сильно возненавидел Скота за эту его подлость, что обрел спокойствие.
— Были, — сказал я, — у меня родичи на Украине. А как же, именно были! Тетя Хая, например. Тетя Доба. Их дети — мои двоюродные братья и сестры…
Скот собирался что-то сказать, но я ему не дал слова. Я приставил к его груди выпрямленный до одеревенения указательный палец — как пистолет.
— Были, да! — крикнул я. — И остались там, под Киевом. В Бабьем Яру…
Он поднял руку, чтобы отвести в сторону мой палец-«пистолет». Но почему-то не решился — передумал! — и провел ладонью по своей гладко выбритой щеке.
Растерялся?
Нет, не то.
Скорее, просто удивился моей вспышке.
«Страх — не просто какая-то одна отрицательная эмоция, — говорил мне давным-давно директор нашей типографии. Он не слишком-то верил, что я его пойму, но продолжал развивать свою мысль. Может быть, просто очень хотел высказаться по этому поводу. — Страх — не самостоятельное и обособленное чувство по имени Страх. Это еще и ущербность души, и самый настоящий телесный изъян… Да, телесный! — крикнул он, хотя я не возражал. — Не гляди на меня, как баран на новые ворота. Пошевели мозгами! Ну? Если у тебя от страха холодеет внутри и подгибаются колени, разве это не физические недостатки?..»
Что я мог ему сказать, что ответить? Пошел к двери директорского кабинета, взялся за ручку — и тут услыхал еще несколько важных фраз, произнесенных грустным голосом, старавшимся быть насмешливым. Но о последних словах директора, которые мне довелось услыхать, я расскажу потом. А сейчас поясню, как я, корректор третьего разряда, очутился в начальственном кабинете.
В типографскую корректорскую, в атмосферу, насыщенную вышеупомянутыми неприятными запахами и бумажной пылью, я рухнул с востоковедческих высот. Совершил, значит, подлог, предал отца — и потерпел законное кораблекрушение. Однако на острове, куда меня прибило, оказывается, ждали — с великим нетерпением — именно такого пострадавшего. Здесь работали три по-разному одинокие и в одинаковой степени несчастливые женщины. Командовала всеми Агния Максимовна Воробьева, властная особа цыганистого типа, с тонкими, часто скорбно поджатыми губами, превращенными с помощью яркой помады в «чувственный рот». Ей было под сорок. В курилке меня просветили: половину своей жизни Воробьиха — любовница начальника цеха Павла Николаевича, который представлялся мне копией генерала Шарля де Голля (естественно, как его рисовали карикатуристы). На мой наивный вопрос: «Чего ж Павел Николаевич не женится на ней?» — последовал малопонятный мне в ту пору ответ: «У него жена больная».