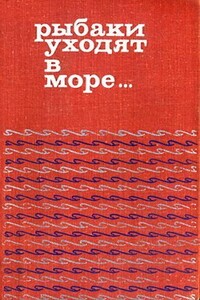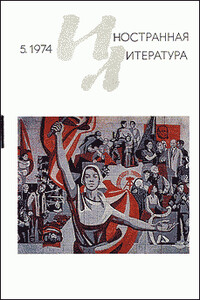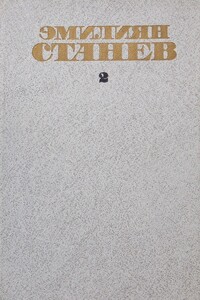Переполненная чаша | страница 115
Снять звездочку с погон старшего лейтенанта было не во власти Кавалера. Он только выругался, когда застывшего на обтянутом черной кожей постаменте Миньковского стащили, будто свергли статую, на землю. Вскоре наш замполит оказался первым в списке офицеров полка, которым предстояло в числе миллиона шестисот тысяч покинуть армию для мирного труда по велению волюнтариста Хрущева.
У замполита Миньковского были слабые руки, узкие плечи и тощие ноги, сиротливыми былинками торчавшие из голенищ. Но я не раз на учениях видел, как резво он карабкался на каменистые сопки, решительно преодолевая преграды из огромных валунов на берегу Харлактырского пляжа, легко, будто молодая коза, перепрыгивал окопы и траншеи на тактических занятиях роты. Но тут, под взглядом грозного подполковника Кавалера, он просто-напросто испугался. Страх сковал Миньковского, не дал ему взлететь, а позорно усадил на зад «кобылы». А вспомнился мне замполит потому, что со вчерашнего вечера я почти непрерывно размышлял о природе и сущности этого чувства и состояния.
4
В корректорской, в атмосфере, насыщенной запахами типографской краски, гневно пузырящегося, в котлах линотипов, словно вулканическая магма, гарта и вонью переплетного клея, я оказался не сразу. Я не свалился сюда с дипломатических высот. Сначала я все же вновь попытался поступить в институт. В ту ночь, которая последовала за моим провалом на мандатной комиссии, я впервые не спал. И впервые за шестнадцать лет меня одолел незнакомый страх Это не была уже изведанная острая боязнь злобной собаки, темной комнаты, пустынного кладбища или внезапно возникшей под ногами бездонной глубины. На меня навалилось совсем иное чувство, хотя и с тем же самым названием. Прежде всего угнетали беспомощность и бессилие. Если сумасшедший сказал правду, то все очень-очень плохо и впереди нет никакой надежды. Мне не сменить родителей, не появиться уже — заново — в иной семье, например в качестве младшего брата Шурика Плаутина. О внешности и говорить нечего: она могла принадлежать только «сморкачу», внешность выдавала меня с головой, как повязка с желтым «моген Дувидом» — шестиконечной «звездой Давида».
Я пялился той ночью в низкий и серый — давно не беленный — потолок и думал о словах сумасшедшего соседа. Нет, не солгал Семен Лазаревич, не преувеличил грозившей мне опасности. Я же читал газеты. Гонение на «сморкачей» коснулось и моих родственников. Я вспоминал, что проклятые на школьном собрании менделисты-вейсманисты-морганисты и иже с ними космополиты носили в основном еврейские фамилии. Правда, встречались среди них русские, армянские и иные псевдоученые, но в тот момент мое сознание было сужено и ограничено своей лишь болью.