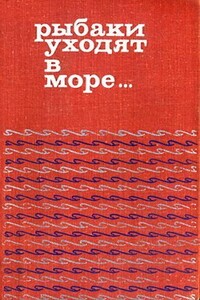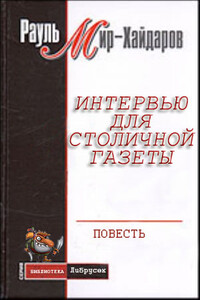Переполненная чаша | страница 116
Этот новый, неизведанный прежде, страх унижал и лишал объективности. Я плакал и пытался мечтать о невозможном. Я спрашивал: за что? почему? Не находил ответа, но не сомневался и на кончик ногтя, что менделисты — враги, сионисты — изуверы, космополиты — предатели. И тогда возникал другой вопрос. Самый страшный, самый подлый и самый безответный, потому что сама постановка его была, как сейчас любят говорить, некорректной, но в то время не только я не знал этого слова, а потому настойчиво спрашивал себя в ночной духоте маленькой комнатки на Пятой Черкизовской улице: «Как это случилось, что среди врагов народа, врагов Страны Советов, противников самого Иосифа Виссарионовича, оказалось столько евреев?» Я ведь и до откровения, изреченного нашим собственным сумасшедшим, знал об этом ужасном факте: если очень старательно рассматривать замазанные тушью страницы старых учебников, то в подписях под зачерченными насмерть фотографиями и в самом тексте можно было прочитать: Тухачевский, Лев Борисович Каменев, Рудзутак, Косиор… Кем же еще они были, люди с такими нерусскими фамилиями. А иудушка Троцкий? Он-то уж несомненно родился, как и я, с м о р к а ч о м.
Ни на один из своих полудетских вопросов ответа я не находил. От этого становилось еще страшней и безысходней. Я открещивался от своей недостойной нации. Страх порождает безумие и обыкновенную глупость. Я отъединял себя от матери и сестры, чтобы не замарать их. Ведь мне уже мерещилось, что мандатная комиссия поставила на мне несмываемый черный крест (или шестиконечную звезду?). А коли так, моя пропащая судьба может горько отразиться на жизни моих родных. И они откажутся от меня. Я мысленно сочинял письмо Сталину с клятвами в верности и мольбой о справедливости. Тем-то и страшен был мой новый страх, что уже в зародыше его была подлость, а в самых маленьких, еще бледно-зеленых росточках содержалось махровое предательство…
К девяти утра был я в институте востоковедения. Он находился тогда в Сокольниках, недалеко от моего дома, и это сыграло решающую роль: если поступлю, мне не придется тратиться на дорогу, добегу туда за тридцать — сорок минут. Я жалел маму, которая тащила в одиночестве нас с сестрой, — так объяснялся выбор института. На самом же деле моя жертва не имела никакого отношения к заботе о матери. Просто я сломался за ночь и всеми средствами изворачивался перед судьбой, вымаливал себе таким добрым намерением какой-нибудь шанс. Страх, вроде бы с рассветом отодвинувшись в глубину сознания, не растаял там навеки, а только затаился. И уже дал свой первый цветок: ложь, круто замешенную на далекой от меня прежде демагогии.