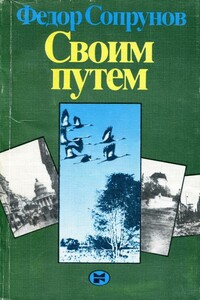Некрасов | страница 47
Лицо Мацкевича растаяло от улыбок:
— Чудная, прекрасная вещь, — воскликнул он, схватив за руку Некрасова, — поздравляю вас с истинным произведением искусства; оно исторгло у меня слезы умиления, а слезы умиления у цензора — это дорогая и редкая вещь, — закончил он шутливо.
— Однако эти слезы не помешали одновременному пролитию и красных чернил? — так же шутливо сказал Некрасов. — Огорчили вы меня, отец мой, весьма огорчили; так трудно переделывать мне эту пьесу, что и сказать не могу.
— Для вашей же пользы прошу переделать, — ласковейшим голосом сказал цензор. — Для вашей же пользы, поверьте честному слову. Скажу, между нами, прелестная эта пьеса должна произвести благоприятное впечатление на всех благомыслящих людей. Так зачем же портить его несколькими необдуманными фразами?
Он взял в руки листок со стихотворением и быстро пробежал его глазами.
— Ну вот, смотрите сами, уважаемый: с такой нежностью описываете вы свою родину, с таким христианским смирением говорите о скромном деревенском храме и вдруг — такое сравнение: в этом мирном храме, оказывается, раздаются стоны, тяжелее которых не слыхали ни римский Петр, ни Колизей.
Цензор умоляюще посмотрел на поэта и сразу же принял внушительный вид и заговорил нравоучительным тоном.
— Неверное это сравнение, неверное и противоестественное. С Колизеем сравниваете наш деревенский храм! С Колизеем, где христиан отдавали на растерзание хищным зверям… Где же, каких зверей видите вы в мирном сельском храме? Уж если и приводить сравнение с Колизеем, ежели он так понравился или для рифмы нужен, так скажите, что молитвы, возносимые в простой деревенской церкви, горячей, чем молитвы христиан в Колизее.
Некрасов рассеянно вслушивался в слова цензора. Он и без его объяснения прекрасно понимал, почему были вымараны некоторые слова и целые строчки. Ему было скучно, и когда он хотел возразить, то голос его был настолько вялым и нерешительным, что цензор перебил его и перешел к другому, на его взгляд, неподходящему месту.
Николай Алексеевич перестал вслушиваться в слова Мацкевича. Сейчас ему было обидно не за вымаранные строчки. Другая, более глубокая обида точила его сердце. Не вычерки, а похвалы впивались в душу — иная похвала бывает хуже самой резкой брани.
— Хорошо, любезный друг, — перебил он цензора, насколько мог, приветливо, — вы меня почти убедили, я подумаю, как это все исправить.
Он потянулся за шляпой и хотел идти, но цензор упросил посидеть еще полчасика, «продлить драгоценные минуты встречи со столь знаменитым поэтом». Пришлось посидеть, даже выпить чаю, даже пригласить цензора на один из ближайших обедов.