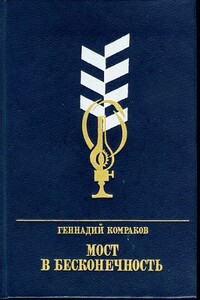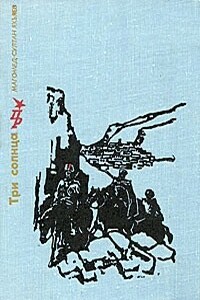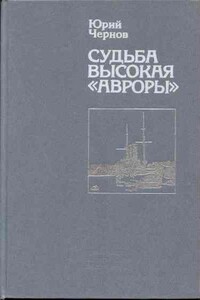Земля и звезды | страница 41
Не словам, а фактам, не догмам и догадкам, а исследованиям, научной логике со студенческих лет доверял и Павел Карлович.
Непобедимая правота Маркса захватила все его существо. В эти дни и в эти ночи ничего, кроме книги, одетой в самодельный переплет, испещренной пометками, носившей множество следов общения с людьми, для него не существовало. Уставая, он откидывался на спинку кресла, закрывал глаза, давая им отдых, и думал: как поздно порою мы постигаем главное…
Особых перемен в Павле Карловиче никто не замечал. Даже Вера Леонидовна решила: увлекся очередной проблемой, замкнулся. И когда это кончится?
А он ходил возбужденный: «Какая несокрушимая логика у этого Маркса…»
Он смотрел на окружающее и видел то, что прежде ускользало от его взора. Даже эти хмурые корпуса Прохоровской мануфактуры… Сколько лет он наблюдал их с крыши обсерватории.
Стены и стены. Выросли на Пресне и стоят. Лишь теперь он понял, как купеческая фабричка вымахала в такую громаду, как набухали денежные мешки у самого Прохорова… И каков будет финал. Может быть, совсем недалекий…
Варвара Николаевна о книге, отданной несколько месяцев назад, не напоминала. И встретились они нескоро.
— Спасибо, — сказал он, когда встреча наконец состоялась. — Я предвижу в моей судьбе крутые перемены. Спасибо!
И протянул ей тяжелый сверток в газетной бумаге.
В обсерватории не было принято говорить о политике. Само собой разумелось, что взгляды и убеждения — личное дело каждого. Это неписаное правило немного расшатала русско-японская война.
— Читали? — спрашивал Цераский Штернберга, разыскивая на карте тонкую змейку реки Шахэ, близ которой произошло сражение.
— Читал, — угрюмо кивал Павел Карлович.
— Куро-падкин командует, чего же боле? — сокрушенно тряс головой Цераский. Фамилию генерала он делил на две части и вместо «т» произносил «д». Однако события на востоке докатывались далекой, глухой волной. О них говорили как о старой, затяжной ране, которая ноет, гноится, но к которой привыкли.
Весть о Кровавом воскресенье ворвалась в Москву по-иному.
— Убитые на Дворцовой площади! — кричали мальчишки — разносчики газет.
— Долой самодержавие! — призывали прокламации, наклеенные на рекламные тумбы, на стены домов, на трамваи.
На фабрике Прохорова протяжные гудки извещали рабочих о начале стачки.
Цераский обеими руками сжимал голову, лицо его было бледнее, чем обычно, глаза, всегда по-детски ясные, выражали испуг и смятение.
— Объясните, объясните, пожалуйста, — говорил он возбужденно, — как это в мирных людей — из винтовок, в детей, в раненых, а убегающих — шашками!