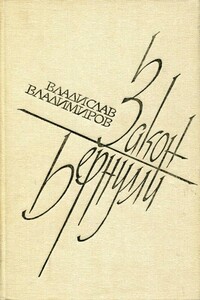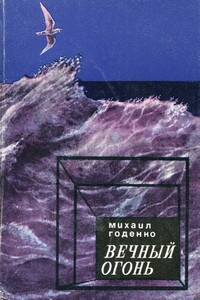Не жалею, не зову, не плачу... | страница 70
а на их место приезжали новые толпы жён, сестёр, матерей. Не только моя мама
была наивной, но и вся Россия верила в справедливость и в то, что мудрые деятели
перевороты свои творили исключительно ради простых людей. И бредёт народ, как
стреноженная лошадь с шорами на глазах, делая круг за кругом по жестоким полям
истории, подгоняемый извергами рода человеческого, почитая их и возвеличивая.
Из поколения в поколение, из эпохи в эпоху обещают они всё светлое и
возвышенное, а на деле всё мрачное и унизительное.
Забрали отца, как она теперь будет кормить семью, никакой у
неё профессии, никогда в жизни она нигде не работала, да ещё, не дай Бог, принесут
похоронку. Ни дня, ни ночи теперь не будет покоя, одна сплошная тревога.
Спустя неделю я отвёз маму в больницу – брюшной тиф.
Болезнь инфекционная, от микроба вроде бы, но я знаю, заболела она от горя, от
страха, что без отца останутся трое сирот, ни денег у нас, ни пропитания, ничего.
Понёс я ей передачу, ищу в списке – нет нашей фамилии. Медсестра сказала,
перевели её в особую палату, а тётки тут же – в палату смертников, зайди с другой
стороны, крайнее окно. Я пошёл, оглушённый, вокруг здания, не понимая, почему
она в палате смертников, здесь же не тюрьма. Стучу в окно, появилась женщина за
двойной рамой – не она, другая, однако кивает мне и слабо улыбается. Я едва узнал
маму и испугался, до того она была на себя не похожа, головка маленькая,
стриженая, с проблесками седины, и бледное личико с кулачок.
Я ходил к ней каждый день, приносил куриный бульон,
бабушка варила, и мама стала выздоравливать.
А тут уехала Лиля. Отца её забрали в армию полгода назад, и
он пропал без вести. Они с матерью писали везде, но ответ пока один. Лиле с
матерью дали комнату от завода, они продали свой дом и переезжают на
Пионерскую. В последний вечер прошли мы по Ленинградской, мимо торфяного
болота, на пруд, и Лиля сказала: «Я вычитала: когда горе стучится в дверь, любовь
вылетает в окно». Кого она имела в виду? Моя любовь, если вылетит, так вместе со
мной. Настал день, когда я сам на Гнедке перевёз Лилю на Пионерскую. Сам грузил
вещи, сам сгружал и поехал обратно на свою опустелую Ленинградскую, ни Лили
там, ни матери, ни отца. Сказать, что было тяжело, не могу, – не тяжело, а
ничтожно, я для другого рождён, вот главное ощущение.