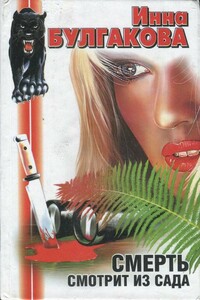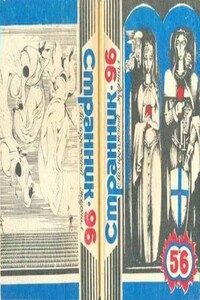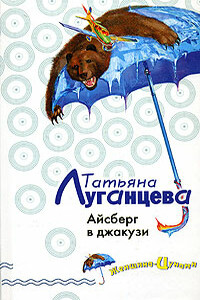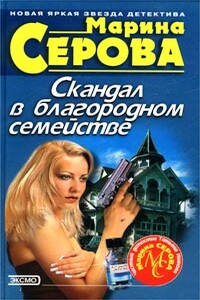Литературный агент | страница 75
— И такая глубокая, — проникновенно продолжил чудак, — такая изысканная тайна останется нераскрытой: отроки, убитые в заколдованном замке, как будто маньяку понадобилась их кровь… Погодите, Алексей. Попробуйте встать на такую точку зрения: божественный Юлий, писатель-мистик (каковым он себя считает), устроил всемирную мистификацию.
— Зачем?
— Причина глубинная — своеобразный садомазохизм. Испытать страдания (наслаждение страданьем), чтобы собственный опыт, этот живой ужас, отразился впоследствии в его мертвых «текстах», преображая их. А какая реклама, Боже! (Причина тщеславная.) Как взойдут его тиражи — как бездарная, безумная лебеда на навозе. Сам Вагнер в тюрьму примчится.
Я, по привычке уже, вслушивался в интонацию его — вроде благодушную, ни нотки зависти.
— Кто ж по доброй воле сядет в тюрьму?
— На минутку, помяните мое слово. Запутали сатрапы, будет негодовать на пресс-конференциях, запутали, запугали. А в нужный момент стопроцентное алиби, например, обнаружится.
— Рискованно. Алиби еще надо доказать.
— У этого шустрого «мистика», как ни странно, полно поклонниц. («Как ни странно — Громов», — сказал мне отец.) Деловую хватку, в смысле пиара на пустом месте, он блестяще и неоднократно проявлял. Невиновность его женщины докажут, если потребуется. И выйдет наш герой, белокурая бестия, осиянный славой. «Глория», — отвлекся восторженный Платон, — песнь Ангелов во второй части католической мессы, у меня, православного, всегда вызывает слезы на глазах от внезапной красоты на земле.
— Жажда славы вас не мучает?
— Какая может быть слава у филолога? — улыбнулся Платон. — Меня мучает совсем другое. — И процитировал: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный».
Я спустил его на землю.
— Что вы знаете о поклонницах абсурдиста?
— Основываюсь только на его словах о побочном воздействии литературы (он еще цинично употребил Томаса Манна — «святая русская литература»): любую бабу могу закодировать.
— Закодировать?
— Мне претит подобный жаргон, естественный для уголовника, рафинированный для горе-интеллигента, может, именно потому, что я всего лишь литературовед, а не творец.
— Вы считаете, что творец этот должен жить по особым законам?
— По ночам, — засмеялся Покровский, — когда творит.
— Платон, а что вы, как литературовед, скажете о «текстах» Старцева?
После маленькой паузы Покровский ответил осторожно:
— Он мой друг.
— «Платон мне друг, но истина дороже», — вспомнил я, к месту, Аристотеля. — Ну, скажите как друг.