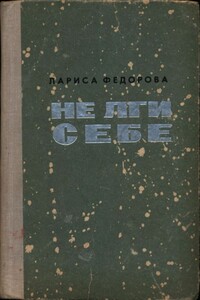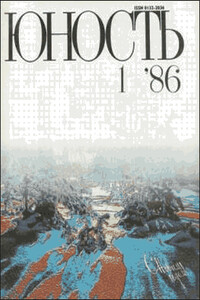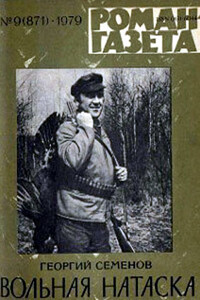Луна звенит | страница 61
— Я давно уже бросил, а сейчас с превеликим, так сказать… с удовольствием закурю. Действительно, ветер…
Я дал сигарету.
— А-а-а, — сказал он, — сигаретка! Это даже лучше, я всегда курил сигареты. Но вот что, скажите, вы очень обиделись на нас с Юлей? Я заранее знаю, что вы ответите, но прошу простить мою жену… Она сказала мне, что просила вас не включать радио.
— Все это чушь! — сказал я со злостью. — Дикая чушь! О какой вы обиде? Я прекрасно отдохнул, ни на кого не обижался и завтра утром уезжаю в Москву. Разве были причины? Вы понимаете, что такое причина для обиды?! Причина!
— Ну спасибо, — сказал Глеб. — Мне радостно слышать такое.
— Я не настолько… В общем, чтобы обидеться, нужна причина. А ее-то и не было.
— Да, — сказал Глеб. — Я вас хорошо понимаю. Спасибо.
— Что же вы не закуриваете? — спросил я. — Вот вам спички.
Глеб как бы вспомнил вдруг о своей сигаретке, покрутил ее в пальцах и протянул мне.
— Спасибо, — сказал он. — Все-таки я не буду, не стоит, пожалуй, все-таки яд…
— Как хотите.
Мы сидели с ним на скамейке под освещенными электричеством березами и молчали и, кажется, оба смотрели на окна дома.
За занавесками ходила Юлька: она то нагибалась, то вскидывала руки, поправляя волосы, то останавливалась в задумчивости, и тогда был виден ее профиль, обостренный какой-то, ломкий профиль женщины, которая шла против ветра, зажмурив глаза от пыли… У меня болело сердце, когда я вспоминал о недавней нашей встрече, о презрении, о постыдной той ошибке и о своем смирении, о покорстве своем ради ее покоя, а вернее, ради ее превосходства надо мной, которое единственно могло дать ей силы, потому что злость и ненависть всегда дают силы, а она ненавидела меня за мою мнимую низость, которую она представила в возбужденности своей, и в стыде своем, и в преступлении. И я не хотел видеть ее истинного позора, потому что позор, о котором она думала, о котором, как считала она, я знал, тот позор я принял весь на себя, убедив ее в том, что следил за ними, и видел их, и знаю все. Она меня презирала за это, и ей было легче переносить свое преступление. Но я мог одним только словом ввергнуть ее в тот истинный позор, о котором она и не помышляла. Я ничего не видел, ничего не знал, ни о чем не догадывался. Она ошиблась. А если бы узнала? Это был бы великий стыд, тягчайший позор… Мне было жалко ее. И себя было жалко. И я старался ни о чем не думать и ничего не вспоминать.
Юлька за занавеской стелила постель. Было еще рано, хотя и темно уже — август. Она взбила подушки, потом захватила простыню и раскинула ее в руках, и скрылась за этой широкой простыней, и только тенью темнела за ней. Той тенью, которая останется от нее во мне, в моем сознании, в памяти… Такой, видно, останется в памяти — зыбкой тенью.