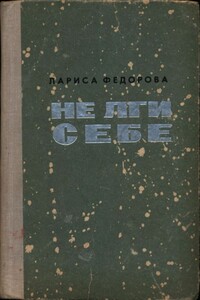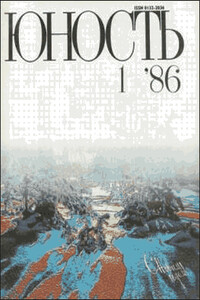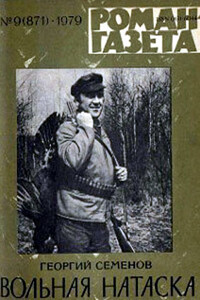Луна звенит | страница 29
Он распахнул облупившиеся рамы и услышал скворца, который пел на бронзовой рябине: и верещал он, и посвистывал, и скрипел, как внучок. Было тепло на улице, сыро и туманно. Он увидел отсюда дом своей дочери, серую покатую крышу и оседланную лошадь у крыльца.
— Генка, что ль? — спросил он громко.
Мать подошла, оперлась рукой на его спину и выглянула тоже в окошко.
— Не он, — сказала. — Это директор совхоза. Поздравить, видать, приехал. Его лошадь-то.
— Ну?! — сказал Иван удивленно. — Неужели поздравить?
— Поздравить.
— Ах, какой молодец! Вот это молодец! — сказал Иван и неохотно вернулся к столу, в серые сумерки избы. — В самом деле? Не верится даже… Новый, что ль?
Мать смотрела на сына, ласково морщась в улыбке, и молча кивала.
— Выпить бы с ним по этому случаю! — говорил Иван восторженно, вновь заражаясь праздничным весельем. — А, мам? Выпить бы с ним… Хороший, видать, человек.
Отец напрягся, зашевелил пальцами и сказал:
— Ко мне советоваться приходит о земле…
Умолкнул, а пальцы его шевелились на клеенке, словно щупали ее слепо.
В доме было пасмурно, и распахнутое окошко не в силах было впустить сюда, в избу, свежесть и шум весеннего дня, его свет и радость. За окошком был другой мир, доступный и благодатный. Представился уже случай уйти из избы в тот мир, забыться опять с молодыми, но Иван сидел за столом, курил, тяготился и не мог уйти, ощущая непонятную вину перед стариками.
Он почувствовал пьяность свою и понял, что еще опьянеет, потому что жалостливые мысли какие-то уже угнетали его, будоражили и воскрешали былое.
— Не обижает он вас? — спросил Иван у матери.
— Ктой-то? — спросила мать.
— Директор…
— Что ты! Ну как же… Пенсию нам вот назначили… Что ты! — говорила мать, поднимаясь. — Он и на войне был, и раненный был, и контуженный, щека у него вздрагивает… Контуженный. Вот, значит… Не-ет, что ты! Довольные мы…
Отец ловил каждое слово, покачиваясь от трудного дыхания, кивал согласно, и Иван понял, что никогда, наверное, не сможет привыкнуть и не захочет смотреть на мученическую его молчаливость, на гнев его глаз и покой омертвелого лица, на блеск натянутых скул и деревянное равнодушие лба, над которым со странной живостью завихрился сивый чубчик.
— Иди ложись, — сказала ему мать. — Землей взялся…
Пальцы его стали ощупывать клеенку, руки напряглись, и он покорно поднялся и пошел, ни слова не сказав и не оглянувшись, к кровати.
— Не уподи! — сказала ему мать.
— Уподу! — откликнулся он с жутью в голосе.