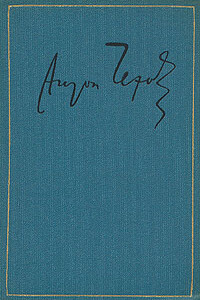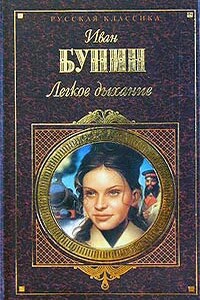Трудное время | страница 67
— Ну, никогда ничего и не найдете. Мало ли я какое заглавие придумаю. Это ничего не значит.
— Как ничего не значит?
— Понимаете, это все равно вот, что вывески такие бывают; вот написано: «Русская правда» или «Белый лебедь», — ну, вы и пойдете белого лебедя искать? а там кабак. Для того чтобы читать эти книжки и понимать, нужен большой навык, — вставая, продолжал Рязанов. — На свежую голову, ежели взять ее в руки, так и в самом деле белые лебеди представятся: и школы, и суды, и конституции, и проституции, и великая х[артия] в[ольностей], и черт знает что… а как приглядишься к этому делу, — ну, и видишь, что все это… продажа навынос.
Рязанов хотел уйти.
— Нет, постойте, — говорила Марья Николавна, загораживая ему дорогу. — Вы мне скажите прежде, что же тут о школах-то написано?
Рязанов сел опять на диван.
— Какие там школы? Тут дело идет о предмете более близком. Школа! Это опечатка. Везде, где написано «школа», следует читать шкура. Вон там один пишет: трудно, говорит, очень нам обезопасить наши школы; он хотел сказать: наши шкуры. А другой говорит: хорошо бы, говорит, выделать их на манер заграничных, чтобы они не портились от разных влияний. Видите? А третий говорит: ладаном, говорит, почаще окуривать, ладаном. На себе, говорит, испытал — первое средство. Это все о шкурах. Ну, а публика, разумеется, так как она очень умна, то этого не понимает и думает, что в самом деле разговор идет о легчайшем способе обучения грамоте. Конечно, ей следует внушать, чтобы понимала.
Марья Николавна, закусив губы и сдвинув брови, стояла напротив Рязанова и невольно следила глазами за движениями его рук; он медленно, но крепко свертывал в трубку какую-то книжку.
— Как же это так? — спросила она. — Ведь это значит, все неправда?
Лицо ее вдруг вспыхнуло.
— Что неправда?
— Да вообще, все, что печатается?
Рязанов улыбнулся.
— Что же вы улыбаетесь? Вы скажите! Неправда это все? Я уж буду знать по крайней мере.
— Нет, оно, пожалуй, кое-что и правда, да только…
— Что только?
— Только надо уметь читать.
— А зачем же так пишут, что нужно еще голову ломать?
— Да что же делать? — привыкли.
— И вы так же пишете?
— И я так же пишу. Какой же бы я был писатель, если бы я так и валял все, что в голову придет. Этак всякий лавочник сумеет написать… Свет-то, видите ли, так уж устроен, — говорил Рязанов, вырезывая из бумаги какие-то городочки, — что когда у человека болит живот, то обыкновенно об этом умалчивают: не принято. По-видимому, что ж тут такого? Самое естественное дело, однако не принято говорить о страдании брюшных органов, и кончено. Светские обычаи требуют, чтобы больной в этом случае не объявлял о своем недуге публично. Голова болит — можно сказать, и нога болит — можно сказать, даже бок болит — хоть в присутствии высоких особ можно сказать; а живот болит — нельзя: сейчас выведут. Вот подите же! И ничего не сделаешь: обычай. Светские обычаи требуют от вас, чтобы в то время, когда у вас болит живот, чтобы вы беспечно предавались разным забавам и говорили комплименты; а не можете, ну, сидите дома и скажите, что у вас нервная атака.