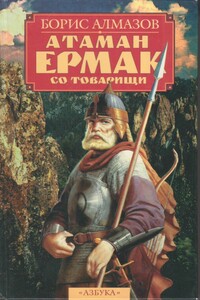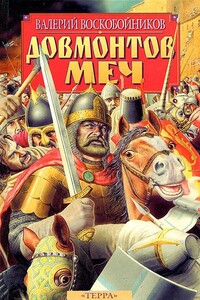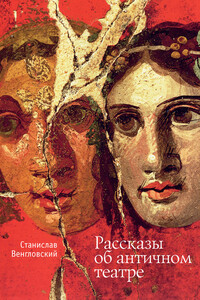Полтава | страница 56
Потом скакал за каретой вместе с усатыми казаками, склонялся к раскрытому окошку кареты, откуда вырывались самые нежные запахи, а княгиня, направлявшаяся в Броды, всё с той же обворожительной улыбкой пропела невероятное:
— Пан Ян, шведы трактуют о вашем царе, что мыши гуляют, пока кота нет дома!
Гетман не ожидал таких суждений. Но вспомнил, что княгиня пережила двух своих мужей, которые заправляли Речью Посполитой, — значит, она хорошо разбирается в государственных делах, — и лишь тогда начал прислушиваться к словам из обворожительных женских уст.
— Пан Ян! А вы разве привязаны к царю? Разве Украина не завоевала себе самостийность? Разве вы заслужили того, чтобы вами управляли грубые московиты? Круль Станислав на сей счёт совершенно иного мнения. Панна Ядзя войдёт в лета — ей бы хотелось, чтобы крёстный её был повыше гетмана!
И дорогое вино, и ласковые глаза, и тихие слова, и свои собственные мысли — всё усилилось тогда в один всплеск. И поднялась в душе беспокойная мысль, которая и до того тайно мучила, жгла постоянно... Чтобы беспечно, достойно и в богатстве жить, нужно иметь собственную силу, а не зависеть от московского царя. Царь не допустит чужой самостоятельности. Так было до сих пор, а если царю удастся с честью выстоять против шведов... Страшно сказать. Княгиня Дольская помогла войти в доверие великих панов, а там и самого короля Станислава. И даже в доверие того, кто над королём Станиславом, — шведского короля.
Гетман отогнал воспоминания и приказал джурам выйти. Он понимал, как опасно сейчас общение с таким агентом, а тот, ещё ничего не зная, собственноручно прикрыл за джурами дверь. Острые глаза проткнули в покоях тёмные углы. Далее медленно перекрестился на иконы, наслаждаясь торжественностью мгновения. Лицо его смягчилось. Он тихо сказал:
— Omnia feci, domine![10]
Из-под широкой чёрной одежды быстрые руки вытащили свиток бумаги, затем ещё один, прижатый к другой половине груди, оба скреплённые печатями. Мазепа взял поданное дрожащими руками — оно ещё хранило тепло человеческого тела — и так близко поднёс к пламени свечей, что монах решительно отодвинул канделябр:
— Jam leges sunt![11]
За чтением лихорадка отпускала.
— Что же, — почти прошептал наконец гетман, — отдохну перед смертью...
Монах услышал и согнулся в поклоне, снова уставился на ясновельможного. Он рисковал. Побывал у значительных людей. Ему бы тоже отдохнуть под крылом у самостоятельного князя, правителя. Но он не мог знать, что думает гетман, произнося молитву.