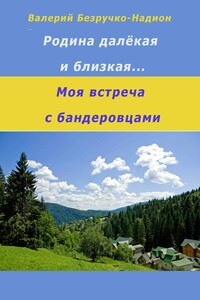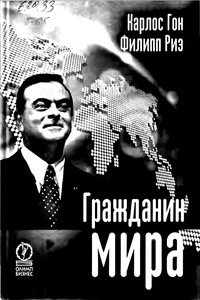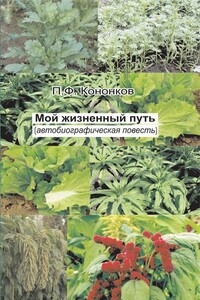Словесность и дух музыки. Беседы с Э. А. Макаевым | страница 3
Это помещение можно было бы назвать кельей в пуританском варианте Телемского аббатства. Для автора этих строк оно больше чем на тридцать лет стало своеобразной мини-Касталией, настоящей академией, причем в полном соответствии с литературным прототипом академическая жизнь здесь была выдержана в свободном, даже игровом духе. Как–то незаметно и легко сложилась традиция этих академических бесед, или, точнее, монологов Э. А., иногда прерываемых вопросами ученика. Правда, время от времени ученику предоставлялась возможность для диалога или даже собственного монолога. Обычно я приходил к Э. А. около шести–семи часов вечера и оставался так долго, чтобы только можно было успеть на метро. Эти встречи, как правило, происходили со сравнительно небольшими интервалами в несколько недель. Темы монологов Э. А. определялись кругом его текущих, крайне разнообразных и непредсказуемых занятий и чтений. Но постепенно ученик стал робко проявлять инициативу. Безграничная эрудиция Э. А. невольно воспринималась как нечто совершенно естественное. Можно было утонуть в ставшем привычным кресле и предложить Э. А. любую тему или любое имя из всего необъятного пространства мировой культуры и искусства, а затем в течение нескольких часов слушать безукоризненно выстроенную исчерпывающую диссертацию на предложенный сюжет. Все имена, даты и цитаты воспроизводились без малейших затруднений, доставались с полки и открывались точно на требуемых страницах фолианты.
У Э. А. была совершенно потрясающая память. Свои научные работы он полностью сочинял в уме и лишь потом записывал без единой помарки каллиграфическим почерком. Когда поднялся железный занавес и у меня возникла возможность непосредственно и подробно знакомиться с мировыми художественными шедеврами во время командировок в европейские университеты и научные центры, Э. А. любил выслушивать подробнейшие отчеты об этих впечатлениях. Причем здесь невозможно было отделаться банальными восторгами («Ах, какие краски!») и цитатами из путеводителей или популярных путевых очерков. Я тщательно готовился к приходу в дом Э. А. после возвращения из очередной поездки, обдумывая, что и как рассказывать столь требовательному слушателю. Несмотря на полное отсутствие собственных путевых впечатлений, Э. А. всегда оказывался прекрасно осведомленным о моих художественных и культурных открытиях, сделанных в этих поездках. Причем иногда случалось, что, выслушав мои рассуждения, в оригинальности которых я был совершенно уверен, Э. А. доставал с полки том одного из классиков европейского искусствоведения, разумеется, в оригинале, и обнаруживалось, что это соображение уже было опубликовано, иногда за много десятилетий до моего рождения. Но поскольку у автора этих строк никогда не было претензий на утверждение собственного приоритета, подобные совпадения вызывали у него чувство гордости за то, что ему удалось самостоятельно прийти к тем же выводам, что и признанному классику жанра.