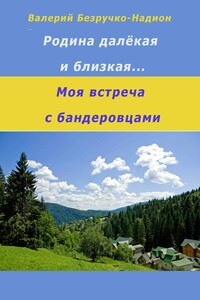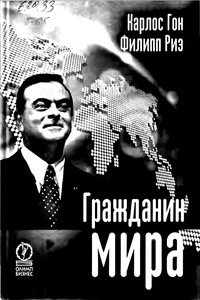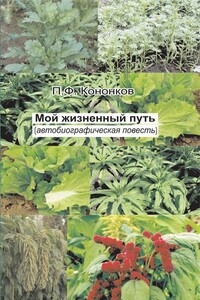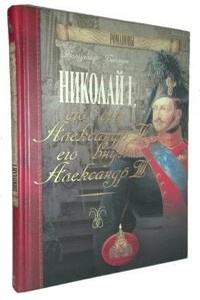Словесность и дух музыки. Беседы с Э. А. Макаевым | страница 4
Приведу здесь один характерный случай. Во время своей первой поездки в Англию я смог подробно познакомиться с творчеством прерафаэлитов. В отечественных музеях эти художники практически не представлены, а их отдельные произведения в европейских континентальных музеях, например, в коллекции Штеде- левского института во Франкфурте–на–Майне, как–то не привлекли специального внимания, так что я попал под обаяние творчества этих замечательных художников только в Лондоне. Вернувшись в Москву и обдумывая эти свои впечатления для традиционного доклада Энверу Ахмедовичу, я решился на смелое заключение, что художники–прерафаэлиты не сформировали четко обозначенного художественного направления, подобно романтизму, импрессионизму и т. п. Даже хорошо изучив их произведения, было невозможно угадать, как будет выглядеть незнакомое полотно художника этой школы. В своих комментариях для Э. А. я заявил, что прерафаэлиты скорее напоминают не четко структурированную таблицу видов К. Линнея, а зоопарк, где очевидно, что в соседнем с жирафом вольере окажется не автомобиль, а какой–то зверь, но только неизвестно, какой именно. И вдруг Э. А. достал с полки сочинение одного из своих любимых английских художественных критиков и открыл его ровно там, где я с изумлением обнаружил слово зоопарк для характеристики школы прерафаэлитов.
Кстати, здесь можно добавить, что Э. А. очень высоко ценил творчество художников, составлявших круг «Мира искусства». Для меня мирискусники были самыми любимыми русскими художниками. Только в ходе дискуссий с Э. А. стали очевидными типологические параллели между прерафаэлитами и мирискусниками в истории соответственно английской и русской живописи и в их месте в общей панораме европейской живописи. Английская и русская традиции светской живописи сложились значительно позже, чем в Италии, Германии, Фландрии, Франции, Испании, так что прерафаэлиты, как позднее мирискусники, видимо, должны были как–то восполнить этот исторический вакуум. Отсюда эклектизм и частое балансирование на грани китча в обеих школах.
Эти уже традиционные интеллектуальные экзерсисы, продолжавшиеся все годы неформального общения с Э. А., оказались эффективным инструментом развития аналитических и риторических навыков, ставших исключительно полезными в научной и педагогической жизни младшего участника этого общения. Вполне типичные для Москвы традиции неторопливых вечерних бесед на разные темы, только не на кухне, а в кабинете, превратились для него в уникальный университет.