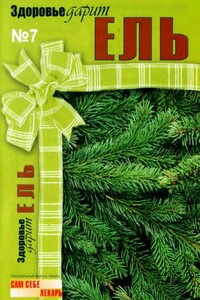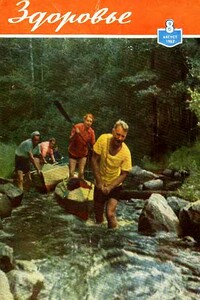10% Human. Как микробы управляют людьми | страница 75
Если представить эти цифры на графике, получится очень тревожная картина: по всем признакам эта кривая будет и дальше ползти вверх. Если мысленно продолжить ее, легко увидеть, что вскоре наше общество изменится самым радикальным образом. Даже по самым скромным подсчетам выходит, что к 2020 году аутистом будет каждый 30-й ребенок, а некоторые даже высказывали мысль, что к 2050 году в каждой американской семье будет расти по одному ребенку с расстройствами аутистического спектра. РАС гораздо чаще проявляются у мальчиков, чем у девочек: настолько, что, по некоторым подсчетам, он затрагивает около 2 % мальчиков. Некоторые считают, что дело не в реальном росте заболеваемости, а в улучшении диагностики, однако даже с учетом того, что к нынешним показателям привело и повышение сознательности родителей и врачей, эксперты сходятся на том, что рост заболеваемости — не фантом, а реальность. Впрочем, относительно причин этого явления до недавних пор единого мнения не было.
В ту пору, когда Эллен Болт начала изучать вопрос, доминировала теория, согласно которой аутизм обусловлен генетическими причинами. А всего десятилетием ранее очень многие психиатры верили совсем в иное объяснение — в так называемую гипотезу «мамы-холодильника», почву для которой нечаянно создал сам Лео Каннер. Еще в 1949 году он написал, что дети-аутисты с самого начала жизни сталкиваются с «родительской холодностью, зацикленностью, механическим вниманием к одним только материальным потребностям… Их как будто аккуратно поместили в холодильник, который никогда не размораживается. Уходя в себя, они, по-видимому, отстраняются от такой ситуации, ищут утешения в одиночестве». Но Каннер писал и о том, что аутизм — врожденное нарушение, а потому не раз повторял, что не верит, будто сами родители способствуют развитию этой болезни у детей. К 1990-м годам в большинстве стран от гипотезы «мамы-холодильника» уже отказались, хотя в некоторых уголках мира ее еще принимали всерьез. Теперь внимание переключилось — возможно, вслед за общей модой, — на генетические факторы как возможную причину аутизма.
Конечно, Эллен Болт не собиралась раскрывать тайну происхождения аутизма. Она просто не исключала возможности, что болезнь ее сына вызвана каким-то другим явлением — быть может, какой-то специфической инфекцией, — и хотела дойти до истинной причины. Болт принялась искать ответы на свои вопросы, соблюдая то идеальное равновесие между непредвзятостью и скептицизмом, какое обычно свойственно лучшим ученым. В этом ей очень помогла профессия программиста: ведь здесь требовалось совершить ряд логических шагов, чтобы затем выстроить на их основе единую гипотезу. Несмотря на отсутствие медицинского образования и опыта научной работы, она начала с самого начала: с наблюдений. «Я наблюдала за сыном и пыталась понять: что же заставляет его вести себя именно так? Например, он ел пепел из камина и жевал салфетки, при этом отказывался от той еды, которую давала я. Почему он это делал? Когда к нему прикасались, он реагировал так, как будто ему больно, и то же самое происходило от громкого шума. Опять-таки — почему?»