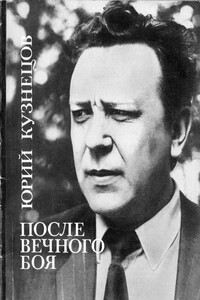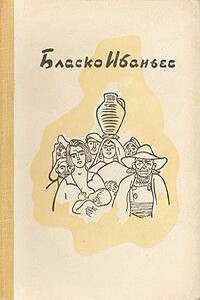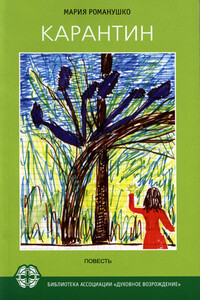Тропы вечных тем: проза поэта | страница 119
Стихотворение типичное. Описан факт пребывания на мосту, достоверны: и пропуск, и граница «поперёк и вдоль реки», и слёзы «вдоль щёк», и кулаки, стирающие эти слёзы, и косящие глаза самого поэта, и то, что возвращаются в Баку именно на машине — нет лишь поэзии. Произошло это потому, что поэт, описывая факт жизни, останавливает свой взгляд на внешних деталях. Область его внешнего, физического зрения становится областью его внутреннего зрения. Внутреннему миру просто не остаётся места. Это лишает поэта одухотворённости, сковывает воображение, делает его неспособным серьёзно размышлять, глубоко чувствовать. Работая над стихом, он вызывает из памяти конкретные зрительные образы, навеянные темой, и начинает их сцеплять по внешнему признаку. «Зрительность» его метафор и сравнений, сочетание контрастных понятий (добро — зло, торжественность — прыть, зима — лето, застенчивый — наглый) говорит именно не об остроте, а о слабости зрения. Недаром он видит всего два цвета: чёрный и белый. Возьмём пример, стихотворение «Русский язык». Поэт обращается к языку:
Русский язык олицетворяется с неким человеком. Но представьте себе картину, которую вам навязывают. Некий человек сидит на крылечке, он подставил закату своё лицо, и в это время берёт колечко у Кольцова и кольцо у Курбского, которые, видимо, присутствуют рядом, как живые лица. Но ведь колечко Кольцова и кольцо Курбского — это метонимия. А Смеляков её реализует. Это напоминает известную сатиру Саши Чёрного «Песнь песней»: скульптор Хирам изваял уродливую статую Суламифь, поняв буквально метафорический стиль «Песни песней» царя Соломона. Но Саша Чёрный зло шутит, а Ярослав Смеляков серьёзен, но с ним происходит то же самое, что со скульптором Хирамом.