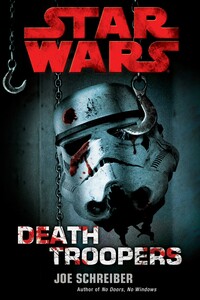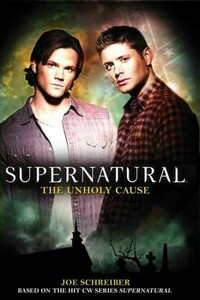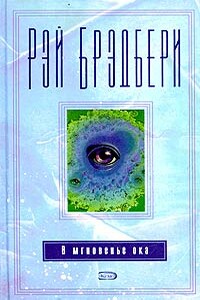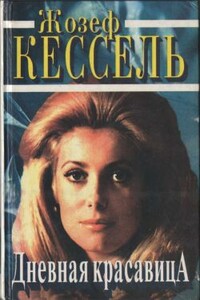Гуд бай, стервоза! | страница 40
— А теперь ты послушай меня, — сказал он. — Я твой отец, и сейчас, только что, ты перешел все границы дозволенного! Это понятно?
Я увидел через его плечо, как от толпы отделилась Гоби. Она стояла не шевелясь и смотрела на нас. В руке она держала что-то похожее на электрошокер, и нацелен он был прямо в шею моему отцу. Я судорожно замотал головой.
— Непонятно? — спросил отец, неверно истолковав мой жест. — Что ж, объясню яснее. Пока ты живешь под моей крышей, ты будешь подчиняться моим правилам. Ты больше не ребенок. Вся эта твоя игра в музыканта закончена. Пришло время сосредоточиться на более серьезных вещах.
Я снова перевел взгляд на Гоби. Позади нее появился парень в кожаной куртке. Ему было лет двадцать с небольшим, и лицо его было похоже на скульптуру, созданную ненормальным студентом, одержимым любовью к отображению вен на лице. Волосы у него были зализаны назад каким-то мощным гелем, что придавало ему сходство с куклой Кеном. И одновременно еще один парень, его ровесник, с такими же бесцветными, словно агатовыми, глазами материализовался справа от меня. На нем было потертое кожаное пальто, а осанка почему-то придавала ему вид человека, который долгое время сидел в тюрьме. Под левым глазом у него была татуировка в виде скатывающейся слезы. Что-то в этих ребятах было такое, что подсказывало, что под всем этим прикидом у них пушки.
Я тут же вспомнил про черный «Хаммер».
— Ты вообще слушаешь меня? — спросил отец. — Я, между прочим, разговариваю с тобой!
— Пап, нам надо выбираться отсюда.
Я поискал глазами Гоби, но она растворилась в толпе. А вот парень со «слезой» не растворился, он направлялся прямо ко мне, и на лице его было написано: ты и только ты виноват во всем дерьме, которое случилось со мной в жизни; ты и только ты — ответ на все мои вопросы, и я не успокоюсь, пока не надеру тебе задницу.
Он оттолкнул отца, даже не глядя на него, а отец, в свою очередь, отлетел в сторону, даже не сопротивляясь. Парень с татуировкой посмотрел мне прямо в глаза, и в его зрачках я увидел отражение собственной смерти. Эта смерть не была ни героической, ни значимой, ни хоть сколько-то интересной — просто кровавой, болезненной, нелепой. Я обернулся и посмотрел на сцену, откуда доносился страшный дробный шум — его и музыкой-то было нельзя назвать, было больше похоже на взбесившегося осьминога, бьющегося внутри гитары.
Парень с татуировкой смерил меня взглядом.
Мне было некуда деваться, и я запрыгнул прямо на сцену.