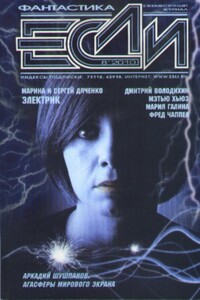Тварь размером с колесо обозрения | страница 75
Она набрала номер Светицкого.
— Павел Викторович? Да… Да… Мы были у радиологов… Они говорят, что оставшихся Володе греев может не хватить. Мы подумали… может, все-таки операция…
— Скажи, что я готов рискнуть, — попросил я.
— Володя готов рискнуть, если что… да… ясно. Я понимаю. А если все-таки рискнуть на операцию? А… Да, я поняла. Конечно. До свиданья, Павел Викторович. — Она спрятала телефон в карман.
Я спросил:
— Ну что?
— Не знаю, — сказала Яна. — Он почему-то резко против операции. Предлагает облучаться.
Я сказал:
— И что теперь?
Яна повторила:
— Не знаю.
Глава двадцать вторая
Тварь, похожая на колесо обозрения, пропала из моей жизни в тот день, когда я узнал свой диагноз. Ее просто не стало: может, только иногда появлялся какой-то намек на нее, тонкая тень, не более. Она не появлялась больше за окном, ее голова не терялась среди колючих звезд; она не поджидала меня вечерами на площадке третьего этажа в электрических сумерках; не стояла за спиной, когда по ночам я сидел в кресле за компьютером и писал. Она испарилась: вот была — и вот ее нет. Даже воспоминания о ней как-то истерлись, как будто я проснулся от сна и провалился в реальность: у меня рак, мой прогноз, как пишут на западных сайтах по онкологии, POOR, и врач, сочувственно глядя мне куда-то в район подбородка, говорит, что мне осталось жить, может быть, год. Это бытовой ужас, и в нем нет места ужасу инфернальному. Впервые я вспомнил о твари, наверно, во время первого курса химии осенью 2015 года. Помню, в процедурной не было мест, и нас с парнем, у которого после операции убрали не только глаз, но и нос, капали в реанимации; там в тот день лишних мест хватало. На первую химию мне достался очень нервный лечащий врач: она постоянно меня проверяла, расспрашивала и благодаря ей капали меня больше одиннадцати часов, хотя должны были около пяти; с девяти утра до восьми вечера. Правда, дали перерыв, и я пообедал в столовой. Кроме того, у меня были заранее подготовлены питательные батончики и минеральная вода, так что голодным я не остался. Хуже было с туалетом: я мужественно терпел, но иногда уж совсем было невмоготу, и я звал медсестру. Она перекрывала капельную систему, снимала меня с иглы и позволяла выйти. Сделав дело, я возвращался: медсестра прочищала бабочку и снова ставила иглу. Медсестра была молодая, незнакомая. Я не видел ее прежде, не видел и потом. Помню, как мой безносый сосед что-то бормотал себе под нос: он лежал в дальнем углу. Мы с ним не разговаривали; но он занимал себя беседой сам. Было в нем что-то отчаянное, в его одиночестве, в том, как он продолжал бороться с болезнью и как медленно, но неотвратимо сходил с ума. Мне было страшно смотреть ему в лицо; верно, так же страшно смотреть на меня здоровым людям. Он понимал, что я боюсь с ним говорить; и сам со мной не заговаривал. У нас был похожий диагноз, но он гораздо ближе придвинулся к краю пропасти. Было очень стыдно, что я не могу набраться смелости с ним поговорить; Яна бы сумела. У нее замечательно получается вести беседу с кем угодно; она любит и видит человека везде. Я же слишком привязан к оболочке, и это действительно стыдно. Помню, чтоб отвлечься от бормотания безносого, я читал электронную книгу: какие-то страшные байки, крипи-истории, заранее скачанные в интернете. Мне снова стало нравиться страшное: бытовой ужас отступил, вернулась вера в победу над болезнью, и теперь можно бежать в ужас инфернальный; потому что страх нужен, и в выдуманном ужасе — безопаснее. Я глотал страницу за страницей. Безносый что-то бормотал злым голосом. Он говорил то тише, то громче, его бормотание напоминало пение дикаря-культиста из дешевого фильма ужасов. Я отложил книгу и подумал: может, что-нибудь ему сказать? Как-нибудь пошутить, подбодрить? Поинтересоваться здоровьем? Это казалось кощунством: парню оттяпали пол-лица, так велико было распространение опухоли. Я не знал, что ему сказать, чтоб это не выглядело фальшиво. У меня не хватало смелости заглянуть в глубины бытового ада; я трусливо бежал.