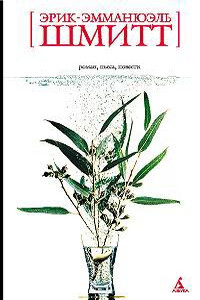Месть и прощение | страница 61
– Значит, разорение.
Они покачали головой. Дело всей жизни – их творение – только что потерпело крах. Никакие слова не могли передать их смятение.
Молчание было наполнено угрызениями, сожалениями, страхом за будущее. Мысли в их головах мешались – неисчислимые, торопливые, незаконченные – и тут же исчезали под наплывом новых.
Рефлекторно, как богомолец перебирает четки, Вильям взялся за часы и открыл крышку, чтобы глянуть на фотографию.
Поль Арну удивился:
– Что за…
– Ничего, – сухо ответил Вильям, захлопывая крышку.
Стараясь выглядеть естественно, он посмотрел на циферблат, потом указал на дверь, ведущую в конференц-зал.
– Они уже час там дискутируют… Пойдем послушаем, до чего они додумались.
Поль Арну со скептическим видом пожал плечами. От тех людей он не ждал никаких предложений. Кстати, он вообще больше ничего не ждал. Покачав головой, он пробормотал обвисшими губами:
– Что мы здесь делаем? Какой смысл собирать кризисный совет на «Титанике», если айсберг уже вспорол его корпус? Нам не предотвратить неизбежное кораблекрушение. Мы ничего не спасем.
Рассматривая золотистую жидкость в стакане, Вильям Гольден недовольно проговорил:
– Что можно спасти? Деньги?
– Нет.
– Честь?
– Тоже нет. Alea jacta est[12].
Поль Арну вышел.
Оставшись один, Вильям Гольден несколько раз повторил:
– Ни деньги, ни честь.
Снова взяв часы, он открыл крышку и, глядя на фотографию, изменившимся голосом еще раз спросил:
– Что бы сделала ты?
В апреле, когда он засел за повторение пройденного, готовясь к экзаменам на бакалавра, Вильям получил письмо от Мандины. Его пальцы дрожали, когда он брал конверт.
После их ноябрьской встречи от нее не было никаких известий, это молчание и успокаивало его, и тревожило. Успокаивало, поскольку означало, что Мандина сдалась. Тревожило, потому что он слишком плохо знал Мандину, чтобы предвидеть ее реакции, и нарциссически полагал, что его невозможно разлюбить так быстро.
Много раз он собирался написать ей, но осторожность брала верх. Письмо пробудило бы пыл Мандины и насторожило папашу Зиана, да, послание могло бы послужить решающим доказательством его участия в истории, к которой он не желал иметь никакого отношения. В декабре, мучась неизвестностью, он все-таки спросил у Поля, намерен ли тот отправиться в савойское шале на Рождество. Друг скорчил недовольную гримасу и воскликнул: «Представляешь, мой pater familias[13] его продал! Какой-то голландец предложил бешеные деньги. Мы с сестрой возражали, но pater, которому надоели лыжни по соседству и прогулочные тропы на склонах, пообещал купить шале в Церматте, в Швейцарии. Ну и тем хуже, и тем лучше…» Узнав эту новость, Вильям ощутил облегчение: ни Поль, ни семья Поля – то есть никто из его круга – не сможет связать хандру Мандины с ним самим. Отныне Мандина, папаша Зиан, резвая коза и желтая собака пребывали на краю мира, за тысячи километров.