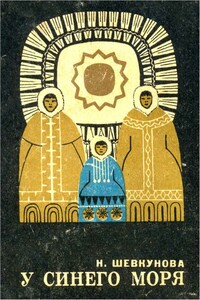Утренняя заря | страница 49
А чтобы собрать побольше зрителей — массу, которую надо научить, на несчастье других, — жандармы выгоняли жителей из домов и, примкнув штыки, гнали их к месту казни.
Вскоре главная площадь оказалась битком забита народом, а на вливавшихся в нее улицах стояли вооруженные солдаты. Бицо тоже стал невольным свидетелем убийства первого назаретянина.
Бицо стоял на углу улочки Пап, прислонившись к стене дома священника. Глазами он искал виселицу и с непонятным для себя самого равнодушием думал, что и его самого ожидает такая же судьба, если только удача хоть на минуту, хоть на миг отвернется от него: без нее при первой же проверке документов его ожидает либо пуля, либо петля.
— Начинается, — пробормотал, стоя рядом с ним, старый железнодорожник с дрожащей головой. Пытаясь привстать на цыпочки, он оперся ладонью о стену.
— Вроде так… — согласился его сосед, молодцеватый, коренастый крестьянин в синем фартуке. — Вон они: выскочила кукушка в часах!
Сравнение было точным, потому что нилашистский министр внутренних дел брат[14] Вайна со своим эскортом выкатился на балкон ратуши так горделиво, с таким одеревенелым высокомерием, что, если бы виселица не напоминала о серьезности момента, вид их вызвал бы всеобщий хохот и можно было бы просто умереть со смеху, глядя на них.
Но виселица стояла, окруженная каре жандармов.
Перед виселицей находилось возвышение: всем известная подставка полевого алтаря для крестных ходов по церковным праздникам.
Как только брат Вайна махнул рукой, сельский посыльный начал бить в барабан — бил он глухо, все время сбиваясь с ритма, — а справа, из помещения сберкассы, где содержались смертники, появились долговязый пастор и первый осужденный, окруженные четырьмя солдатами и четырьмя вооруженными нилашистами.
Это был болезненно бледный, рано постаревший паренек. Он не доставал и до плеча пастору, широко шагавшему своими аистовыми ногами, одетому в белую сутану, с четырехугольной шляпой на голове.
Толпа, увидев их, охнула и пришла в волнение, как перестоявшее и вываливающееся из опары хлебное тесто; она почти разорвала цепь жандармов.
Потом наступила тишина. Часы на башне, лениво, глухо бухая, пробили полдень. Но вместо колокольного звона по площади, вибрируя, разнесся слабый, трескучий тенор пастора.
— Сын мой, — упрашивал он паренька, — последний раз говорю тебе: именем Иисуса, смирись и покайся!
Юноша поднялся на возвышение, держа в руках распятие. Пастор согнулся в три погибели, заглядывая ему в лицо. Тот кротким, но решительным движением оттолкнул священника. Подняв голову и как бы глядя в бесконечность небес, он прокричал: