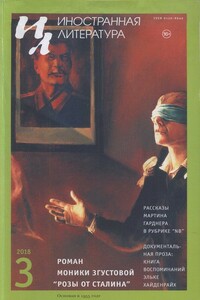На тонущем корабле. Статьи и фельетоны 1917 - 1919 гг. | страница 59
Грянул гром, но поэты — не мужики, и они не перекрестились. В «цветную башню», то есть в десятка два кабинетов, донеслись крики газетчиков, гуд толпы, вой пролетающих поездов, слезы, песни, молитвы. Гроза. Но что это? Это — новая тема для стихов — «война».
Где-то проходили люди в защитных рубахах, где-то были окопы, вши и заградительный огонь. Где-то была война — страдные годы, мука, смертная радость преданной жизни. Где-то!.. А в литературных салонах продолжали читать прекрасно сделанные стихи. Здесь война — только тема, жертвенность — всего лишь стиль.
Но, господа, сколько «стилистических ошибок»! Во всех этих безукоризненных ямбах и хореях сколько величайшей неправды! Вот «оранжевые» и «синие» книги, и вот скуластые пермяки, которые прямо и честно ходят в штыки, не думая о «целях войны»… А на Парнасе бряцают звонкими рифмами и размахивают хоругвями наспех придуманных лозунгов. Даже мудрый умом и сердцем Вячеслав Иванов соблазнен и молитвенно возглашает о кресте на св. Софии. (Молчите, «оранжевые» книги! Ходите в штыки, пермяки!) А более земной Валерий Брюсов à la Ллойд-Джордж уничтожает германских варваров в союзе с, конечно, «гордым» британцем и с, конечно, «свободным» французом.
«Зарубежная Русь», указ Николая Николаевича — чем не тема[114]? (Бобринский etc. — ведь это ж проза!) И вот Федор Сологуб славит «русский меч-освободитель», а Брюсов проливает поэтов елей и на разрушаемую Варшаву, и на замызганные шинели сибиряков — «польки раздавали хризантемы взводам русских радостных солдат». А Сергей Городецкий с достойной резвостью умиляется «Сретеньем»[115] — царь показался народу.
В бой ходят «лихо», взводы «радостные», а вся война, по неподражаемому определению парнасца Гумилева, «воистину святое, светлое и величавое дело». Быть может, какой-нибудь обросший и одичавший прапорщик, читая эти стихи в землянке, негодовал и болел душой. О, да! «Одичавший», успевший позабыть, что для «полубогов» война — не шрапнель, не глина окопа, а прелестное «mot»[116] поэтического турнира. «Одичавший», ибо к чему негодование, коль все эти мечи и кресты, атаки и пруссаки — только «стилистические ошибки», о которых через полгода будут вспоминать со снисходительной улыбкой, «но все-таки там прекрасные рифмы и удачные сравнения»… Ах, есть ошибки, которые искупаются смертью, а есть и такие, которые легко исправить парой новых стихотворений «в духе времени».
Есть прекрасная ложь, «возвышающий обман», ложь-сон, мечта, более реальная, чем житейская истина. Но во сколько раз ниже поэтова ложь о лихих боях, великой смерти Ивана, Петра, толком не подумавших: «А к чему?». Их муки, муки всей России возвысили нас, а чириканье или грозное хлопанье крылышками поэтов принижало, создавая тыловой канареечный уют.