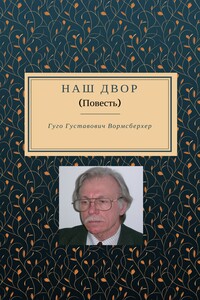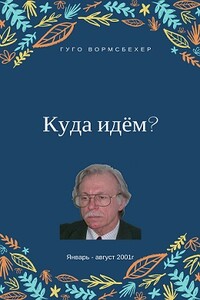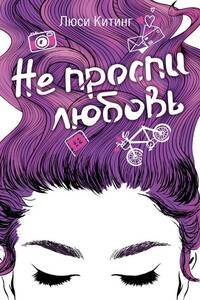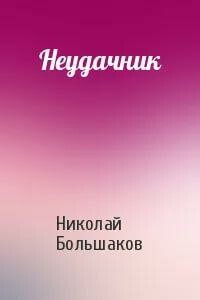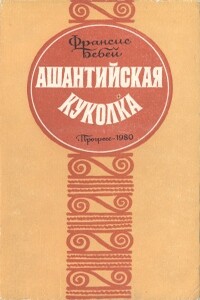"Шаг влево, шаг вправо..." | страница 28
Современная тематика больше всего получала отражение в произведениях Александра Реймгена. Он жил в то время в Средней Азии, в Голодной степи, прожил там и годы освоения целинных и залежных земель, работал среди целинников, поэтому его произведения наполнены духом того времени, а действующие лица в них, как и в самой окружавшей его жизни, чрезвычайно разные по национальному составу, неизменно проникнуты теплым чувством уважения друг к другу, к обычаям и традициям друг друга.
Однако, хотя главные герои произведений того времени о современности — советские немцы, они практически не наделены национальными интересами, они не заняты национальными проблемами, об этих проблемах они даже не говорят: они дружно трудятся "рука об руку" с представителями других национальностей и вместе с ними всей своей жизнью демонстрируют, что интернационализм для них — "не абстрактное понятие, а естественное состояние". Национальное в этих произведениях и их героях проявляется в основном в сфере фольклорно-этнографической и в аккуратности, прилежности, трудолюбии персонажей-немцев. История народа, недавнее прошлое, трагедия, через которую советский немецкий народ прошел в годы войны, отсутствие национальной культуры, школ, возможности изучать родной язык и т. д. — на всё это не могло быть в этих повестях "о современности" даже намека. Герои обладали положительными и отрицательными чертами в должных пропорциях и действовали в каком-то ирреальном пространстве, отсеченном от прошлого и оторванном от настоящего, они были будто помещены в какую-то прозрачную колбу, куда добавлялось некоторое количество персонажей других национальностей, реалий жизни, деталей и эмоций, и в этих произведениях-колбочках "исследовались", как практически и во всей советской литературе о том времени, общество "развитого социализма" и "многогранная, гармонично развитая личность" строителей этого общества.
Унизительное положение всей могучей по потенциям советской литературы, ее роль, сведенная до оправдания и воспевания политики правящего крыла партии и результатов этой политики, даже если бы не служили примером для советской немецкой литературы, то не могли не привести ее к выводу о безнадежности и обреченности любой попытки сказать правду. Если уж вся советская литература не могла себе этого позволить, то что оставалось никому не известной, стократно поднадзорной советской немецкой литературе? Литературе, находящейся в гораздо более сильных тисках и не имеющей в жизни своего народа практически никакого положительного материала для своих творений?