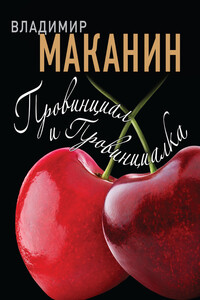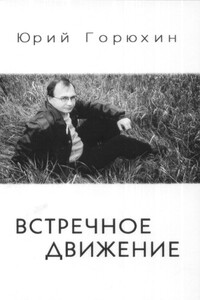Ночь… Запятая… Ночь… | страница 56
К. улыбался. К. был весь чистенький, и беленькая головка его была покрыта нежными серебристыми волосиками. И глаза были чистые, чуть только выцветшие. И даже лицо было нежно обтянуто кожей, как бы и без морщин. Одет он был опрятно: он был в голубенькой рубашечке и в шортиках. Да, это было оно: счастливое детство.
– А вы заметили, что сегодня много ласточек? – спросил он моего отца с улыбкой.
Они строили и строили, потеряв уже, кажется, и цель, и соотнесенное значение строительства. Они готовы были все потерять, но не способность строить. Они только и держались за свои стройки – эта последовательность стала теперь и главной, и самой заметной чертой.
Они удивляли стойкостью и даже жертвенностью, держась за свое последнее уменье – строить. (Но почему же оно обернулось ощущением отставания? Но почему вообще что-то чем-то оборачивается?) Вспоминая юность, я ведь тоже вспоминаю, как обернулись мои юношеские разговоры о страдальцах и о простых людях, вдруг воплотившись (материализовавшись) в образ бывшего зека Васи. И когда, быть может, по профессиональной привычке я вникаю в анализ, в запоздалый и уже не вполне достоверный пересмотр наших с Лерой обернувшихся отношений, я тоже помню (с болью! и с остротой!) прежде всего то, как на меня обрушились мои же слова. Я помню, думаю – ищу не смысл, зачем мне теперь тот смысл, но ищу чувство тех дней – хотя зачем мне теперь и то чувство? Зачем – если урок не нужен, а переживаемое заново чувство лишь дразнит, манит своей удивительностью, когда я пытаюсь войти не столько в то время, уже утекшее, сколько в мое отставание от того времени. Я люблю не столько Леру, Василия и самого себя, тогдашнего (хотя всех их троих люблю), сколько люблю само то время, от которого отстал.
Мысль, конечно, упрощена. Но именно так, поскальзываясь на моей юности, появился из ничего живой Вася – со своим грузовиком и со своими вечными нарами, и именно так Лера язвила меня моими же словами, и, когда я стал нелюбим и хотел справедливости, справедливость-то, возможно, уже и торжествовала в высоком смысле обернувшихся бумерангом слов.
Помню, у Василия (уже в самом конце моего там пребывания) появилась как-то в руках гитара. Он запел. Ни слуха, ни голоса у него не было – и мне так остро стало жаль, что он немузыкален. Я был огорчен и сник. И даже отвернулся, помню, ушел. Ведь – образ!.. он был для меня человеком пострадавшим.
Лера (делясь со мной):
– …Василий рассказывал о своей жизни. Руки – вот что там было нужно человеку в первую очередь. Крепкие и хваткие руки.