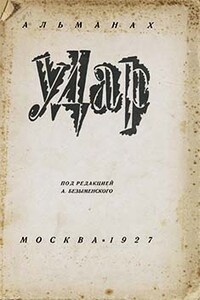Битва | страница 27
Он покорно снимал маски с гвоздя, прятал под подушку, но она тут же вновь просила:
— Нет, повесь назад… Не убирай! Пусть, пусть пророчат…
Вешая маски на место, говорил ей успокаивающе:
— Нет, Лидуша, ты не права, ничего они не злые, все будет хорошо… — И вдруг нашелся: — А ты посмотри, вот как надо повесить их, и все. Сразу все другое.
Маски повесил наоборот: комедийную выше, трагедийную ниже.
— Смотри-ка! Ведь все другое! Правда ведь? Смотри, Лидуша!
И она воспаленными больными глазами увидала — да, да, другое: человечек улыбался, поощрительно, добро, искристо-весело.
— Правда! Теперь хорошо… Этот веселый, смешной…. Хорошо, что ты убрал злого, противного.
К утру она успокоилась, затихла: температура спала, и Лидия Ксаверьевна уснула.
С тех пор она поверила: маски — ее талисман, добрый, охраняющий, как верный страж, и конечно же, вот придет Егор, как всегда, спросит, что ей принести, и она первым делом попросит свой талисман, свои маски. Пусть они снова будут рядом с ней, она их повесит над кроватью. Нет, над кроватью неловко, спрячет под подушку. И еще попросит Егора, чтоб принес картошки, ее любимой, жаренной на подсолнечном масле, засушенной до хруста…
Как же здорово, что тогда подвернулся тот белобрысый, забавный солдатик, подарил ей маски, подарил смешно, неуклюже… «Мне они без надобности. Так, пустые вещички». Пустые… Где он и что с ним стало? Жив ли? Ведь в марте сорок пятого было, на Берлин шли. Впрочем, они, эти маски, потом завалялись у нее, она о них забыла; и нашлись-то они, как ей теперь помнится, в тот самый день случайной встречи с Егором, и это обстоятельство теперь тоже представлялось ей знаменательным, обретало глубокий, неповторимый смысл, тем более сейчас, в этом ее новом состоянии — оно усиливало и подогревало ее радость, ее любовь ко всему окружающему, к ее Егору…
Она лежала и так думала, по-прежнему мало замечая, что делалось вокруг, в палате, не слушая сдержанных переговоров женщин. После обхода все угомонилось, утихомирилось; даже за дверью, в коридоре, затихло движение, лишь изредка кто-то проходил, отшлепывал резиновыми подошвами по пластику. Тишина и полусумрачность — в палате свет как бы растекшийся, подкрашен, разбавлен молоком — отвечали настроению Лидии Ксаверьевны, и она, совсем уйдя в себя, смежила глаза и не услышала ни стука в дверь палаты, ни шагов Сергеева, когда он подходил к кровати. Какое-то внутреннее беспокойство, мягкий толчок вывели ее из заторможенного состояния, и она открыла глаза: Сергеев стоял перед ней с рассеянной улыбкой, должно быть не ожидая, что она откроет глаза, и Лидия Ксаверьевна отметила эту грустно-рассеянную улыбку, и мгновенное, на какую-то долю секунды, мелькнуло сомнение: что означала его улыбка? Возможно, она плохо выглядит? Поэтому?.. Но вот он уже радостно и широко засиял, стоит, высокий, в куцем халате, в обеих руках по бумажному большому пакету.