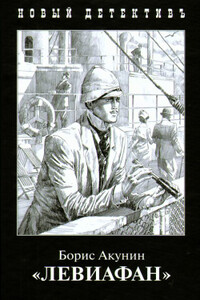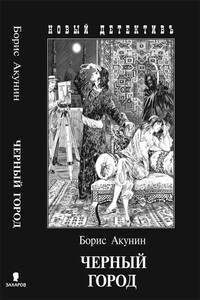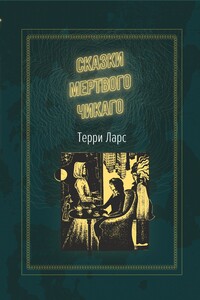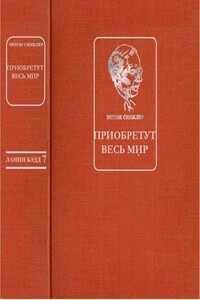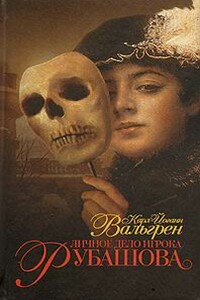Не прощаюсь | страница 139
И еще кому-то:
– Давай, детки. Тихохонько.
Слева и справа обозначилось шевеление. Кто-то медленно двигался там, не шурша травой, не беспокоя ветки.
Мона скосила глаза. Увидела двоих слева, одного справа. Они были в одинаковых солдатских гимнастерках без погон. У каждого винтовка.
Тот, что зажимал ей рот – немолодой, вислоусый, – поцокал языком, покачал головой:
– Гляди, баба, не зашуми. Осерчаю – пожалеешь. Моргни, если поняла.
И так весомо, страшно он это сказал, что Моне и в голову не пришло ослушаться. Она моргнула.
Тогда он отнял руку, крепко взял Мону за локоть. В другой руке у вислоусого был «наган».
– Пора! – крикнул он.
И все четверо с треском вывалились на полянку.
Сидящие успели лишь обернуться. Увидели наведенные стволы – медленно подняли руки. У всех троих сделались одинаковые лица: сосредоточенно-застывшие, двигались только глаза.
Командир выпустил Монин локоть, подтолкнул:
– Ступай к ним. Сядь.
Она отбежала к своим, тоже плюхнулась на землю, прислонилась к мужскому плечу. (Это был противный Скукин, но сейчас обиды не имели значения.)
Наконец смогла рассмотреть лесных людей.
Трое с винтовками были молодые, бритые. На левом рукаве зеленая повязка. Оружие держали не абы как, а каждый целил в одного из сидящих. У немолодого тоже была повязка, но немного другая – с белым кружком.
Были они совсем не такие, как те ночные, с парома. На бандитов не похожи, но сразу видно, что очень опасные. Особенно начальник.
– Грамотно нас взяли, – прошептал Канторович.
– Сидеть тихо! – прикрикнул усатый. – Руки не опускать.
И своим:
– Пойду лодку посмотрю. Не зевай, ребята. Кто шело́хнется – бей.
– Ого, чего тут у них! – заорал он от баркаса. – «Гочкис»! И две ленты!
Солдаты повернули головы.
Воспользовавшись этим, Скукин цапнул из нагрудного кармана удостоверение, швырнул в кусты.
– Слушай приказ, – быстро шепнул он. – Каждый за себя. Мы друг друга не знаем. Я попросился меня подвезти.
Точно так же избавился от документов и Канторович.
Вернулся усатый. В одной руке он держал снятый с треноги «гочкис», в другой – большой бинокль отца Сергия, обычно лежавший на корме.
Спросил:
– Чьи будете? За кого воюете?
– Ни за кого я не воюю, мил человек, – сказал отец Сергий. – Бинокля моя, на базаре сменял. В речном деле штука годная. Я лодошник.
Говорил он не так, как всегда, а мягко, по-южнорусски. И совсем не заикался. Кто бы мог ожидать от него таких актерских способностей?
– «Гочкис» мой, – поднял одну руку выше Канторович. – Ты его, дядя, за радиатор не держи, погнешь. Я тоже ни с кем не воюю. Пока.