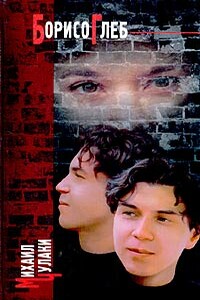Книга радости — книга печали | страница 8
На деревьях по берегам канала только начали вылупляться из почек листочки, покрывая ветви как бы зеленым пухом. А когда листья раскроются во всю силу, они наполовину закроют узкое зеркало воды, и тогда, едва видная между кронами, вода канала покажется еще более сонной. Да, хорошо, что можно в любой момент подойти к окну, посмотреть вниз и отключиться от своих мелких забот и мелких неудовольствий. Из квартиры такого вида нет, там окна выходят во двор, классический петербургский двор-колодец.
Андрей вспомнил о своем жилье — и мгновенно, будто кнопку нажали где-то в животе, остро захотелось есть. Только что и не думал о еде — и вот уже не мог терпеть ни минуты, не мог думать ни о чем, кроме еды. Во время работы он от всего отвлекался, так что даже когда случалась зубная боль, достаточно было взяться за кисти — и сразу отпускало, словно дали наркоз. Зато, когда кончал работу, есть хотелось страшно, и ел он быстро и много, но оставался таким тощим, что Витька Зимин как-то писал с него блокадника. Видно, от постоянной внутренней ярости все перегорало. Андрей с надеждой посмотрел на часы: уже два, оказывается, и значит, должен быть готов обед. Прежде чем побежать вниз, он поспешно вывинтил пробки на щитке около входной двери. После того как у художника Миши Казаченка из-за неисправной плитки сгорела мастерская со всеми работами (предельное несчастье, уж тогда нужно и самому гореть вместе с холстами!), у Андрея появился навязчивый страх короткого замыкания, тем более что проводка здесь, на чердаке, была чуть ли не со времен Достоевского.
Лестница, упиравшаяся верхним своим маршем прямо в дверь мастерской — без всякой площадки, когда-то считалась черной и потому отличалась крутизной и узостью: большой холст, например, нужно было спускать с осторожностью, чтобы не побить на поворотах. Впрочем, сейчас она была облагорожена ремонтом и даже лампами дневного света. Самой примечательной деталью у них на лестнице Андрею казалась трещина этажом ниже мастерской — роскошная трещина, поднимающаяся по стене и загибающаяся на потолок и притом в виде линии Волги на карте. Дом стоял прочно: не проседали потолки, не перекашивались косяки дверей, крыша и та не текла, так что мастерскую ни разу не залило. Но вот трещина каким-то загадочным образом словно дышала: то чуть расходилась — так, что в изгиб, похожий на жигулевский, можно было засунуть спичку, то сжималась в почти неприметную ломаную линию. Андрей никогда не додумывал мысль о трещине подробно. Впрочем, это была даже не мысль, а смутный какой-то образ: ведь в наш тревожный век словно бы через весь мир прошла трещина, и скромная трещина на лестнице казалась не то продолжением, не то воплощением той воображаемой всемирной трещины. И это было абсолютно правильно, что тянулась она снизу к мастерской Андрея и, наверное, невидимая, змеилась и у него под полом: всемирная трещина и должна проходить через мастерскую художника, через его, Андрея Державина, мастерскую. И как бы Андрей ни спешил, он никогда не забывал посмотреть на трещину, оценить ее состояние. Он почему-то не любил ее в фазе сжатия — сжатие казалось ему лицемерным: ведь трещина все равно есть, все равно существует, так пусть будет видна, пусть тревожит! Но сегодня трещина разошлась — явно, честно, откровенно. Андрей провел по ней снизу вверх пальцем, сколько хватало роста, улыбнулся и заспешил вниз.