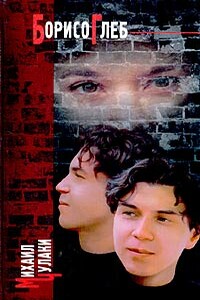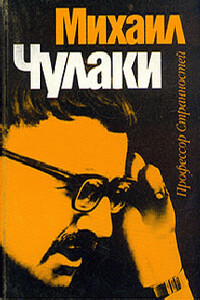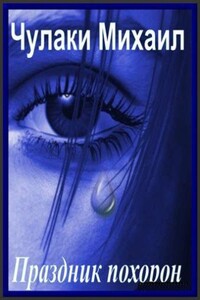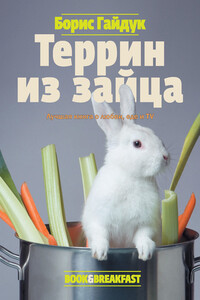Книга радости — книга печали | страница 7
— Значит, мне цена самая низкая?
Пожалуй, Ребров в первый момент скорее обиделся, чем обрадовался: такие всегда гоняются за самыми дорогими вещами.
— Я назначил цену заранее, потому что не знаю, как получится. На уровне сделаю наверняка, а шедевры не планируются. Но если хотите, давайте повысим.
Произошла короткая схватка жадности и тщеславия, и жадность победила.
— Нет-нет, зачем же.
Андрей уже вымыл кисти, почистил палитру — пора было выпроваживать Реброва. Но тот и сам заторопился после предложения повысить цену.
— Вы пойдете? Нам, может, по пути?
Андрей жил по этой же лестнице, двумя этажами ниже. Но он не хотел, чтобы Ребров знал, где его квартира: ведь такое знание могло послужить чем-то, вроде пролога к более близкому знакомству, чего Андрей никак не мог допустить. А пока Ребров знает только мастерскую, он заказчик и больше ничего.
— Нет, я еще задержусь.
— Тогда всего хорошего. Значит, завтра в это же время?
— Да-да.
— Ой, и как же вы в таком воздухе? Я б не согласился даже за ваши заработки!
И ушел утешенный. А то бы всю дорогу высчитывал заработки и завидовал. Пусть верит в эти воображаемые заработки: легче ему будет признать художественные достоинства портрета. Ведь не объяснить ему, что и самый хороший художник может оказаться без гроша. У такого Реброва логика железная: раз хороший, значит, и зарабатывать должен хорошо!
Андрей подошел к огромному окну — фактически целой застекленной стене — и стал смотреть вниз. Вид из окна мастерской его всегда умиротворял. Канал Грибоедова сверху казался совсем узким, неподвижная вода отражала не только сегодняшние берега, а может быть — иногда, под настроение — не столько даже сегодняшние, сколько берега столетней давности, когда и Гоголь здесь жил поблизости, и Достоевский, так что видны были внимательному глазу на застывшей поверхности канала их еще не совсем стершиеся силуэты.
Андрей Державин приехал в Ленинград уже взрослым — и тем сильнее захотелось ему стать настоящим ленинградцем. Он старательно усваивал ленинградское произношение, не окал, не вставлял к месту и не к месту поморские словечки, а многие провинциалы своей провинциальностью спекулируют, благо сейчас считается, что откровение в искусстве должно прийти из нетронутой цивилизацией глуши. Но Андрей не хотел скидок на происхождение. Потому же любил читать книги типа «Памятники архитектуры» или «Литературные места Ленинграда» и знал уже о памятниках и литературных местах куда больше тех ленивых ленинградцев, которые уверены, что всосали культуру с молоком матери и не нуждаются в самообразовании. Только вот писать ленинградские виды пока не мог — пробовал, но получалось как у всех, не находил своего колорита — того, который в северных пейзажах был всегда и появился сам собой, без всякой натуги, без всяких стараний стать непохожим на других. Да и ощущение, которое он испытывал, глядя сверху на канал (будто неподвижная вода помнит все прошлые отражения), — оно появлялось еще там, в полярных морях, когда приходилось стоять в штиль где-нибудь на рейде Амдермы или Маточкина Шара. Если долго смотреть, опершись на фальшборт, — смотреть не смотреть, мечтать не мечтать — начинало казаться, что эта застылая вода никогда никуда не течет, и только, может быть, с годами откладывается на ней новый слой — от растаявшего снега и льда, и что если несколько годовых слоев снять, то откроется отражение «Сибирякова» или «Челюскина», а еще на несколько слоев вглубь. — шхуны Русанова или Седова…